Мышление и наблюдение - [4]
Но что же такое все-таки «нечто» в нашем Постулате Наблюдения? Вопрос преждевременен, потому что за «нечто» еще будет борьба с языком. Не с языком философии или чего угодно еще, а со своим, моим (русским в данном случае) собственным языком. Без этой борьбы нет ни романа, ни рассказа, ни лекции, ни даже разговора настоящего. [Витгенштейн на гребне первой волны логико-лингвистического оптимизма мог еще считать, что с языком «все в порядке»: не знаешь слова, посмотри в словаре. Ну, а уж если непорядок какой случится, тогда... «следует молчать». Отсюда — его языковые игры вместо борьбы с языком.] Тогда моим ответом на вопрос «что такое «нечто» в Постулате Наблюдения?», будет: «я не знаю». Не слово «нечто» не знаю, а то, что оно здесь обозначает. Иначе говоря, не знаю вещи, этим словом обозначенной. Как не знаю и «вещи», обозначенной в моем ответе словом «я». Рассуждая строго буддистически, в моем ответе не будет «ни знания, ни не-знания» (цитата из «Сердцевинной Сутры»). Последнее рассуждение — не эпистемологический ход, а расширение онтологической позиции Постулата Наблюдения. Давайте считать, что ответ на вопрос о «нечто» может прийти только из такого «места», где нет мысли о «я». Но в языке (борьба с языком продолжается) для обозначения такого места я нахожу только одно слово — ничто. [Это предваряет то, о чем мы будем говорить в конце третьей лекции, рассуждая о позициях («точках») наблюдения объектов как позициях, с которых наблюдается ничто.] Более развёрнутым ответом на вопрос о «нечто» Постулата Наблюдения будет: нечто — это объект такого мышления, в котором нет мыслящего об этом объекте. Точнее говоря, такого мышления, которое не включает в себя не только мысли о конкретном мыслящем «я», но и мысли о мыслящем вообще. Добавлю, что сейчас, то есть на данном «витке» нашего рассуждения, нас не интересует, есть ли или может ли вообще быть такое мышление, поскольку, повторяю, в обсервационной философии наблюдается не мышление как объект, а объект как мышление.
Пока же, как с субъективно-эмпирической точки зрения, так и с точки зрения «науки психологии», такого рода мышление остается очень сомнительным допущением.
Теперь спросим: а что же тогда будет означать слово «устроено» Постулата Наблюдения? В нашем рассуждении это слово означает фундаментальное условие наблюдения и одновременно ограничивающее условие (ведь наблюдается не всё и не везде). Я вообще думаю, что понятие онтологии или онтологичности необходимо включает в себя некоторую конкретизацию; «онтологическое» не означает «универсальное», онтология не представима как безбрежная ни в отношении времени, ни в отношении пространства. В Постулате Наблюдения я исхожу из того, что мышление как эмпирически представимое — а не понятое — предполагает как внешнее ему время, когда оно происходит, так и «внутреннее», собственное, так сказать, время его протекания. Постулат Наблюдения можно рассматривать как обобщение задним числом опыта наблюдения объекта как мышления, в котором наблюдатель абстрагировался от времени мышления при наблюдении данного объекта. Объект здесь мыслится как нечто чисто пространственное, так же как и позиция, с которой этот объект наблюдается. Строго говоря, психология — это наука, изучающая психические феномены как процессы, протекающие во времени. Тогда как в обсервационной философии сам факт наблюдения какого-либо психического феномена (включая и мышление как один из таких феноменов) как мышления тем самым исключает этот феномен из времени и, таким образом, его «депсихологизирует». Я не уверен, что теория мышления придет из философии, но абсолютно уверен, что она никогда не придет из психологии.
Эти лекции — для непосвященных, одним из которых являюсь я. Посвящать может только тот, кто сам посвящен другим, тоже посвященным, чего в данном случае или, как говорил Пастернак, «при данной обстановке» просто не было. А что было? — Случай. Случай — не посвящение, но он может стать одним из условий философствования, войти, так сказать, в обстановку, при которой ты можешь начать философствовать, если захочешь, конечно. Тогда «можешь» будет другим случаем, «захочешь» — третьим и так далее. Значит карты легли как надо, идет игра. Но есть еще и игрок. Тот, кто может хотеть и мыслить. Забегая вперед, скажу, что в обсервационной философии он — не абсолютный субъект своего мышления, не «единственный со своим достоянием» Макса Штирнера, не «я», противостоящее миру фактов, обозначенных словами и предложениями естественного языка, как у Витгенштейна «Трактата». Иначе говоря, он — не личность. Он — то место, та позиция, с которой какие-то объекты (и он сам как один из этих объектов) могут наблюдаться как личность. [Замечу, опять же забегая вперед, что здесь «наблюдается как» — это термин, обозначающий одну из важнейших операций обсервационной философии.] Но что же тогда «он», уже определенный (точнее, указанный) нами как «место» и «позиция»? Пока ограничусь тем, что скажу: в обсервационной философии «он» — это сознание, которое фигурирует вместе с этой позицией. Может быть, лучше было бы представить позицию и сознание как два аспекта той, пока еще (то есть в ходе нашего вводного рассуждения) непредставимой «вещи», сейчас условно обозначенной словом «он»? И опять же, в данном случае это «он», а не «я» фигурирует как условное обозначение для наблюдающего сознания вместе с его позицией. Но почему «он»? И что такое сознание?
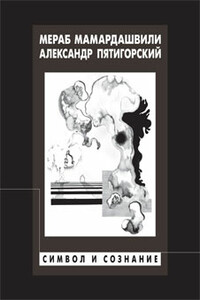
Эта книга представляет собой разговор двух философов. А когда два философа разговаривают, они не спорят и один не выигрывает, а другой не проигрывает. (Они могут оба выиграть или оба остаться в дураках. Но в данном случае это неясно, потому что никто не знает критериев.) Это два мышления, встретившиеся на пересечении двух путей — Декарта и Асанги — и бесконечно отражающиеся друг в друге (может быть, отсюда и посвящение «авторы — друг другу»).Впервые увидевшая свет в 1982 году в Иерусалиме книга М. К. Мамардашвили и A. M. Пятигорского «Символ и сознание» посвящена рассмотрению жизни сознания через символы.
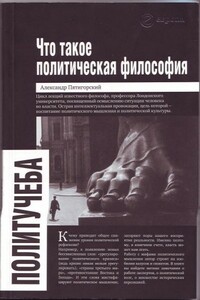
К чему приводит общее снижение уровня политической рефлексии? Например, к появлению новых бессмысленных слов: «урегулирование политического кризиса» (ведь кризис никак нельзя урегулировать), «страны третьего мира», «противостояние Востока и Запада». И эти слова мистифицируют политическое мышление, засоряют поры нашего восприятия реальности. Именно поэтому, в конечном счете, власть может нам лгать. Работу с мифами политического мышления автор строит на изобилии казусов и сюжетов. В книге вы найдете меткие замечания о работе экспертов, о политической воле, о множестве исторических персонажей.
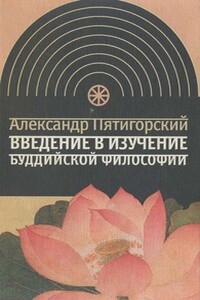
Книга философа и писателя Александра Пятигорского представляет собой введение в изучение именно и только философии буддизма, оставляя по большей части в стороне буддизм как религию (и как случай общего человеческого мировоззрения, культуры, искусства). Она ни в коем случае не претендует на роль введения в историю буддийской философии. В ней философия, представленная каноническими и неканоническими текстами, дается в разрезах, каждый из которых являет синхронную картину состояния буддийского философского мышления, а все они, вместе взятые, составляют (опять же синхронную) картину общего состояния буддийской философии в целом — как она может представляться философскому мышлению сегодняшнего дня.
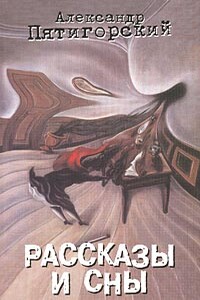
Александр Пятигорский – известный философ, автор двух получивших широкий резонанс романов «Философия одного переулка» и «Вспомнишь странного человека…». Его новая книга – очередное путешествие внутрь себя и времени. Озорные и серьезные шокирующие и проникновенные, рассказы Пятигорского – замечательный образчик интеллектуальной прозы.
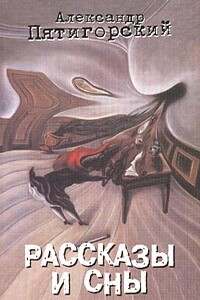
Александр Пятигорский – известный философ, автор двух получивших широкий резонанс романов «Философия одного переулка» и «Вспомнишь странного человека…». Его новая книга – очередное путешествие внутрь себя и времени. Озорные и серьезные шокирующие и проникновенные, рассказы Пятигорского – замечательный образчик интеллектуальной прозы.
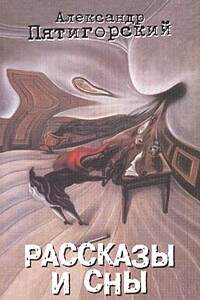
Александр Пятигорский – известный философ, автор двух получивших широкий резонанс романов «Философия одного переулка» и «Вспомнишь странного человека…». Его новая книга – очередное путешествие внутрь себя и времени. Озорные и серьезные шокирующие и проникновенные, рассказы Пятигорского – замечательный образчик интеллектуальной прозы.

В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.