Мыс Бурь - [28]
Подавив зевок, Даша выходила из машины, а через час или два уже возвращалась к себе одна, обычно не замечая, что делается вокруг нее, не замечая ни погоды, ни улиц, автоматически спускаясь и поднимаясь по лестницам метро. Ее ждали к обеду. Часто приходил к отцу Фельтман и обедал тоже с ними, или заглядывал позже и сидел вечер. И тогда Любовь Ивановна и Зай бежали в кинематограф, а она оставалась сидеть в столовой, подле убранного стола, и с удовольствием слушала разговоры о Крыме, Одессе, Петербурге, Константинополе, Белграде, Праге, и сама говорила что-нибудь об Аддис-Абебе и Иоганесбурге.
Фельтман был теперь уже совсем стар. Это был уютный, маленький человек, в прошлом столичный адвокат, с которым год тому назад случилось странное приключение, и хотя почти у всех, кто бывал в доме Тягиных, когда-либо в жизни происходили вещи не совсем обычные, Фельтман почему-то считался в доме человеком наиболее оригинальной судьбы: после многих лет бедственной жизни во Франции он, никогда не быв композитором и даже как следует не умея играть на рояле, сочинил вдруг одно танго, которое постепенно обошло весь мир. Были изданы ноты и напеты пластинки, его под гитару завывали в ночных русских ресторанах певцы, одетые то под цыган, то под испанцев, оркестры играли его, и в одном американском фильме с оркестром же его пела дива с огромным оперным голосом; оно оказалось переведенным на все языки и его насвистывали уличные мальчишки. И Фельтман жил теперь хоть и скромно, но безбедно, чувствовалось, что он до самой смерти обеспечил себя. Но чувствовалось тоже, что он никогда уже больше ничего не выдумает, что единственной его выдумкой за всю жизнь останется его «Звезда Эридан».
Лицо Фельтмана всё лучилось морщинами, шедшими вверх, от носа, мимо глаз, к вискам; эти морщины придавали его лицу выражение постоянной улыбки. Он любил говорить, что становится похож на Репина, только «смотрит еще добрее», и пожалуй, это было верно. Свои голубые, слегка выцветшие глаза он в последние годы стал беречь от яркого света и старался сесть вне лампового круга. В этот вечер Даша, облокотясь на руку, куря не спеша и пуская колечки, заговорила с ним о его романсе. Он в сотый раз рассказал, как однажды сочинил его: ему казалось теперь, что он написал его, на самом же деле ему ни с того ни с сего как-то вечером на седьмом десятке лет пришла на ум одна мелодия (потом ему не раз указывали земляки, что она напоминает одну еврейскую песню), и он пошел к соседям, где было пианино, и там одним пальцем подобрал ее. А ночью, лежа в постели, он придумал к мелодии слова, бедные, сентиментальные и совсем простые, которые его самого довели до слез: он придумал их, вспоминая, как от него лет пять тому назад ушла жена, с которой он собирался прожить до самой смерти и которой всю жизнь старался с грехом пополам быть верным; ушла она с его лучшим другом или с малознакомым человеком, потому что разочарование в дружбе было ничтожно по сравнению с этим кошмаром, с этим ужасом… И вот уже подосланный кем-то молдаванин-гитарист разучивал его мелодию, и с этого гитариста началась его слава, то есть слава его танго, потому что кто же знает фамилию человека, сочинившего то или другое модное танго?
Все это Даша когда-то уже знала, но забыла.
— А почему «Звезда Эридан»? И что такое Эридан?
— А потому, — отвечал Фельтман, весь лучась и сияя нежностью, довольством, гордостью и сожалением о прошлом, — а потому что, когда она ушла, я решил идти искать ее на другой конец света, где имеется звезда Эридан.
И он дребезжащим тенором запел, но сейчас же перешел на шепот, так как голоса совсем не было.
В коридоре на шкафу стоял старый, неизвестно кому принадлежащий граммофон. Еще в прошлом году Соня занесла его в дом и до сих пор не вернула. Даша сняла его, обтерла пыль, принесла в столовую. Нашлась и пластинка, в свое время подаренная Фельтманом, кусочек с краю оказался отбитым. На одной стороне «Звезду Эридан» пел по-русски цыган под гитарный ансамбль, на другой — тот же цыган пел ее с хором. Поставили сначала цыгана с хором, потом гитары. Фельтман слушал с видимым удовольствием, Тягин тихонько подсвистывал, Даша стояла у граммофона и вслушивалась в слова. Действительно, они были немудрены: ты ушла, портрет твой я убрал со стола… И теперь я пойду искать тебя во все концы света, и в самый дальний конец его,
Почему-то все это хватало за душу. И мысль, что весь мир, в самых дальних углах своих, поет и слушает это и танцует под это, не казалась больше Даше странной.
— Нынешние этого понять не могут, — сказал Тягин. — Нынешние все больше насчет саксофона и барабана.
— Так ведь поняли! — возразила Даша, заводя граммофон вторично. — Раз десятки тысяч пластинок проданы, значит любят и это.
Ей было неловко перед Фельтманом за тот шум захлопнутой двери, который раздался в самом начале музыки: это был Сонин способ показывать, что ей мешают. Но Фельтман, улыбаясь, смотрел на вертящийся диск, и мысли его, видимо, были очень далеко.
Когда Любовь Ивановна и Зай вернулись, Тягин и его гость вели уже свой нескончаемый разговор о прошлом и будущем, о старой войне, о новой войне, которая непременно будет, а Даша, под лампой, приводила в порядок какие-то бумаги. С тех пор, как Леон Моро был болен, у нее было гораздо больше работы, чем раньше.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
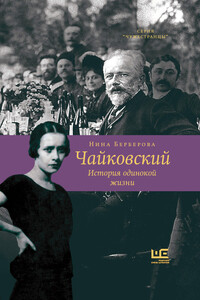
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.
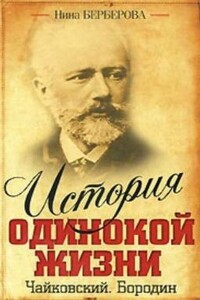
В этой книге признанный мастер беллетризованных биографий Нина Берберова рассказывает о судьбе великого русского композитора А. П. Бородина.Автор создает портрет живого человека, безраздельно преданного Музыке. Берберова не умалчивает о «скандальных» сторонах жизни своего героя, но сохраняет такт и верность фактам.
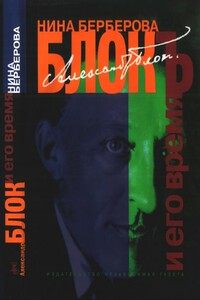
«Пушкин был русским Возрождением, Блок — русским романтизмом. Он был другой, чем на фотографиях. Какая-то печаль, которую я увидела тогда в его облике, никогда больше не была мной увидена и никогда не была забыта».Н. Берберова. «Курсив мой».

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Повести «Акука» и «Солнечные часы» — последние книги, написанные известным литературоведом Владимиром Александровым. В повестях присутствуют три самые сложные вещи, необходимые, по мнению Льва Толстого, художнику: искренность, искренность и искренность…

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Почти всю жизнь, лет, наверное, с четырёх, я придумываю истории и сочиняю сказки. Просто так, для себя. Некоторые рассказываю, и они вдруг оказываются интересными для кого-то, кроме меня. Раз такое дело, пусть будет книжка. Сборник историй, что появились в моей лохматой голове за последние десять с небольшим лет. Возможно, какая-нибудь сказка написана не только для меня, но и для тебя…

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…