Музыкальный ручей - [3]
Тропинка в наш лагерь вела то берегом, у самой воды, то мшистым, в прозрачных лужах яром. Соловей, прежде чем ступить в лужу, останавливался, нюхал воду, а я рассматривал бурую, в цветных ковриках мха тундру, голые окрестные сопки.
Перед нашими палатками начинался спуск. Я решил, что везти меня под гору легче и что пристойнее было бы для коня, да и для седока тоже, въехать в лагерь хотя бы лёгкой рысью. Я выбрал момент и потянул повод. Но Соловей, кажется, и не думал о том, чтобы покрасоваться. Он только обернулся ко мне, скосил большой спокойный глаз, будто хотел узнать, что меня там, на спине у него, так беспокоит, и зашагал дальше ни быстрее, ни медленнее.
В лагерь мы въехали не так, как хотел я, а так, как считал нужным Соловей. Соловья тут же угостили овсом и хлебом, принялись осматривать. Начальник отряда растопырил ему губы: «Кажется, зубы у старика ещё есть». Потом — конь наш, признаться, был как необшитая баржа на стапелях: весь каркас наружу, — потом провёл по рёбрам кулаком, как палкой по штакетнику, и сказал неизбежное: «Берём…»
Мы запасались продуктами перед выходом, и Соловей наш сразу же включился в работу. Сначала я перевёз на нём со склада макароны. Ящики связывали и вьючили на коня: один справа, другой слева. Я вёл Соловья в поводу. Он медленно, с какой-то подчёркнутой плавностью, шагал сзади, понимая, очевидно, что рысить тут ни к чему. В лагере, возле кухни, ящики снимали. Соловей ждал, пока их снимут, передёргивался, будто сгонял назойливого овода, и косил глазом на свой притрушенный опилками бок. После макарон я перевозил муку. Соловей не ждал, пока я поведу его. Как только мешки, два мешка, оказывались на спине, он тут же трогался с места. Я догонял его. Впрочем, конь прекрасно шёл и один и даже останавливался там, где положено: у кухни.
На ночь я напоил Соловья, привязал к плетню возле своей палатки, чтобы не ушёл в тундру, задал корм. Я лежал и слушал, как хрумает он овёс, фыркает иногда, будто кашляет по-стариковски, грузно переступает с ноги на ногу. Потом всё утихло. «Уснул, — подумал я, — устал, наверное…»
На рассвете лагерь разбудило неистовое конское ржание. Возле самых палаток метались лошади, заливался истошным лаем наш пёс Эвахаль. Кто-то опрокинул стол с кастрюлями и вёдрами, кто-то отчаянно ломал плетень, к которому был привязан Соловей. Спросонок я долго выбирался из палатки и, когда выбрался, не сразу понял, что произошло: стол сломан, вёдра и миски валяются в золе, из разорванного мешка рассы́пался по траве овёс. А у разбитого плетня грустно белел обрывок фала — Соловья вместе с новенькой экспедиционной уздечкой не было… Всё ясно: к нам приходил табун, пасшийся на отгоне.
Соловья разыскали уже днём, в тундре. Он понуро стоял в кочкарнике, отбиваясь хвостом от досадливых комаров и слепней. Но какой вид был у нашего коня! Вместо правого глаза — кровавый ошмёток мяса. Добрая белая морда в потёках крови. На ноге глубокая, величиной с ладонь, рваная рана…
Конюх, пришедший в лагерь посмотреть Соловья, сокрушённо заметил: «Окривела, знать, лошадь…»
По мере того как мы обрабатывали марганцовкой раны Соловья, начальник отряда всё более мрачнел: чужой этот конь едва ли годился теперь для работы в полевых условиях. Оставить его здесь? На кого? Взять с собой в сопки? Это ведь не на прогулку. А завтра нам уезжать.
Вечером приехали наши проводники. Приехали радостные: кроме пары жеребцов-трёхлеток, им удалось выпросить двух бывших в работе кобыл. Были они, правда, с жеребятами, но зато бывалые. Старший проводник осмотрел Соловья, покачал головой, сказал: «Ковать надо». Начальник отряда взорвался даже: «Что ты мне „ковать“! Мы тут думаем — брать или не брать?» — «Я думаю, ковать надо», — повторил проводник.
Два дня, то и дело скребя железным днищем на бесчисленных мелях и перекатах, везла нас в сопки маленькая самоходная баржа. Лошади — их было теперь уже пять, не считая двух жеребят, — беспокойно топтались в трюме, храпели, когда баржу заносило течением. Жеребята жались к матерям, цокотали копытцами по уходящему из-под ног тесовому настилу. Лишь Соловей стоял в своём углу отрешённый, одинокий, не обращая ни на что внимания. Он только переступал иногда с ноги на ногу, чтобы поддержать равновесие, а потом опять забывался — то ли дремал, когда боль утихала, то ли вспоминал что-то из нелёгкой и долгой своей жизни. Это, как рассказал нам шкипер, была не первая экспедиция нашего Соловья. На нём ведь только зимой да весной возили в посёлке воду, а летом он всегда ходил с геологами.
Пока мы оборудовали наш лагерь, кони паслись в тундре. Кроме Соловья, конечно: он остался возле палаток. Мы все подлечивали его как могли: где мазью, где словом. Кто-то давал ему хлеба, и конь тыкался доброй мордой в ладони, а кто-то, показав пустые руки, трепал коня по шее: «Ничего нету, брат. Ты уж не серчай…» Только Эвахаль, пёс, знающий своё дело, ворчал на коня, когда тот подходил к столу или к кухне: изжуёт у повара мешочек с солью, потом ходи ластись, оправдывайся… Но Соловей просто не замечал, не хотел замечать хлопотливого пса.
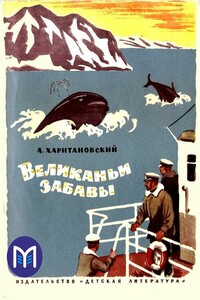
Маленький коряк не дождался, когда за ним приедет отец и заберет его из интерната, он сам отправился навстречу отцу в тундру. И попал под многодневную пургу…
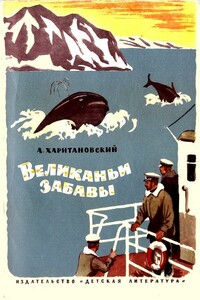
Автор назвал свои рассказы камчатскими былями не случайно. Он много лет прожил в этом краю и был участником и свидетелем многих описанных в книге событий. Это рассказы о мужественных северянах: моряках, исследователях, охотоведах и, конечно, о маленьких камчадалах.
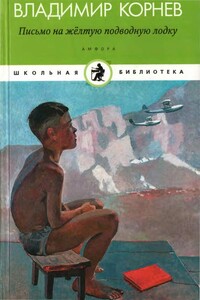
Новая книга петербургского прозаика Владимира Корнева «Письмо на желтую подводную лодку» — первый опыт самобытного автора в жанре детской литературы, а также в малой художественной форме. Сборник включает рассказы и повесть. Все это забавные, захватывающие эпизоды из детства главного героя дебютного романа-мистерии писателя «О чем молчат французы» — Тиллима Папалексиева. Юный читатель вместе с главным героем школьником Тиллимом научится отличать доброе от злого, искренность и естественность от обмана и подлости, познает цену настоящей дружбе и первому чистому и романтическому чувству.

Здесь будут лежать тексты не короткие, а очень короткие, разных жанров, с разными героями, разной тематики.
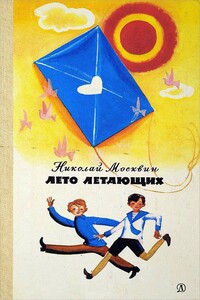
Эта повесть о мальчиках и бумажных змеях и о приключениях, которые с ними происходят. Здесь рассказывается о детстве одного лётчика-конструктора, которое протекает в дореволюционное время; о том, как в мальчике просыпается «чувство воздуха», о том, как от змеев он стремится к воздушному полёту. Действие повести происходит в годы зарождения отечественной авиации, и юные герои её, запускающие пока в небо змея, мечтают о лётных подвигах. Повесть овеяна чувством романтики, мечты, стремлением верно служить своей родине.
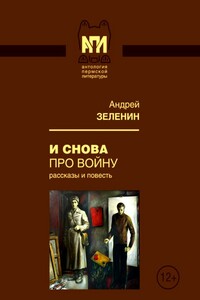
В книгу детского писателя А. С. Зеленина включены как уже известные, выдержавшие несколько изданий («Мамкин Василёк», «Про войну», «Пять лепестков» и др.), так и ранее не издававшиеся произведения («Шёл мальчишка на войну», «Кладбище для Пашки» и др.), объединённые темой Великой Отечественной войны. В основу произведений автором взяты воспоминания очевидцев тех военных лет: свидетельства ветеранов, прошедших через горнило сражений, тружеников тыла и представителей поколения, чьё детство захватило военное лихолетье.