Музыка жизни - [5]
Помню, как папа водил нас весной смотреть ледоход на Москве-реке. Мне было очень интересно наблюдать, как плыли льдины, и моя фантазия снова разыгрывалась — куда они плывут? В какие края? Сейчас этого — увы! — москвичи уже не могут видеть — на Москве-реке не бывает настоящего ледохода: в черте города она почти не замерзает. Да и как могут замерзнуть эти мутные стоки, которые уже и водой-то назвать нельзя. Жаль, что современные городские дети лишены полноценных впечатлений от чудес природы, которые подспудно воспитывают душу, формируют и развивают чувство красоты и любви к окружающему миру.
А еще в раннем детстве мы ходили в расположенный неподалеку от нашего дома Александровский сад, где катались на санках, лихо спускаясь с крутых склонов прямо от кремлевской стены. Тогда, в начале 30-х годов, такое еще можно было делать: наверное, еще не было тех чрезвычайных мер охраны подступов к Кремлю, как стало вскоре после этого, в страшные последующие годы. Как хорошо, что сейчас детишки опять могут лазить по крутым склонам кремлевского холма, забираться под самые стены и скатываться вниз.
Как и все дети, я любила зимой лепить из снега различные фигуры. Иногда сооружала целые снежные городки — мне очень хотелось вылепить что-то похожее на те здания, которые запомнились во время наших прогулок по Москве. Мама рассказывала, что особенно мне нравилось здание Большого театра (да и как оно могло не понравиться!), куда родители впервые отвели меня в пятилетнем возрасте на балет «Щелкунчик». Конечно, впечатления и от спектакля, и от самого театра запали в детскую душу, и я еще долго в своих играх представляла себя принцессой Машей.
Чаще всего я лепила свои «здания» в нашем дворе. А двор у нас был очень интересный, с решетчатыми воротами со стороны улицы, которые на ночь закрывались. Помню, что около ворот стояла будка, в которой располагался старик сторож, одетый в тулуп и подшитые валенки. Еще во времена моего детства во дворе, в подвалах под домом, для каждой семьи было выделено место для хранения дров, пока в дом не провели центральное отопление.
Одной стороной наш двор примыкал к стене знаменитого потом «дома на Грановского». Тогда этот огромный (гораздо больше и роскошнее нашего) доходный дом назывался Пятым Домом Советов, в котором получили квартиры (не комнаты!) новые властители России — деятели Коммунистической партии. Сейчас на его фасаде можно видеть многочисленные мемориальные доски с фамилиями известных деятелей Советского государства.
С другой стороны двор ограничивал каменный забор (в детстве он казался мне высоким), за ним находился Никитский монастырь. По имени этого монастыря называлась и улица, на которую выходили его ворота и трехъярусная колокольня над ними. Но в 20-е годы улица получила имя революционного демократа А. И. Герцена, и лишь недавно ей было возвращено ее историческое название — Большая Никитская. (Кстати, наша улица Грановского опять переименована — теперь это Романов переулок.)
Никитский женский монастырь существовал еще с конца XVI века и действовал до начала 20-х годов XX века, когда в Советском Союзе начались гонения на религию и духовенство: стали закрывать храмы, превращать их в склады, зернохранилища, в лучшем случае — в рабочие клубы или общежития. Сначала церкви грабили, потом стали разрушать. Был упразднен и Никитский монастырь, но еще в 20-е годы на его колокольне иногда звонил известный в Москве звонарь-виртуоз К. К. Сараджев, которому нравился тембровый подбор колоколов монастыря. (Об этом замечательном мастере колокольного звона писала А. И. Цветаева в своем «Сказе о звонаре московском».) Осенью 1930 года власти запретили колокольный звон в Москве, и «концерты», которые мы вполне могли слышать, играя во дворе, прекратились.
Окна нашей комнаты выходили как раз на монастырь, и мы были свидетелями его печальной судьбы. Посреди монастырского двора стояло два храма (еще два размещались под колокольней). В декабре 1929 года их закрыли, а на следующий год начали сносить. Самого момента взрыва я не запомнила (была еще слишком мала), но помню, как мы играли и лазили по развалинам — искали какие-то воображаемые клады и даже тайный ход в сторону Кремля, который, как мы считали, просто обязан был существовать. Вот так и шли рядом — слепое, варварское уничтожение взрослыми своих же национальных корней, своей истории (в оправдание новой истории) и жизнь детей, до поры ничего еще не понимавших в происходившем и игравших на развалинах прежних святынь.
В поисках таинственных кладов и подземных ходов мы не ограничивались только своей «территорией», а перебегали улицу и «исследовали» близлежащие дворы, в том числе и большой университетский — как раз напротив нашего дома. Там тоже стояла (и стоит, слава Богу, до сих пор) красивая церковь — домовый храм графов Шереметевых. Эта церковь Знамения — один из немногих прекрасных образцов стиля «московское барокко». А тогда в ней был устроен университетский склад.
После сноса Никитского монастыря, на месте, где стояли его храмы и колокольня, в 1935 году появилось здание электроподстанции строившегося тогда в Москве метро. Серое, невыразительное строение попытались хоть как-то оживить по фасаду «революционными» барельефами. Это было так убого, что писатель-сатирик Илья Ильф в своей записной книжке с убийственным сарказмом назвал это творение «вдохновенным созданием архитектора Фридмана».
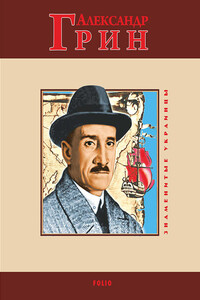
Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.
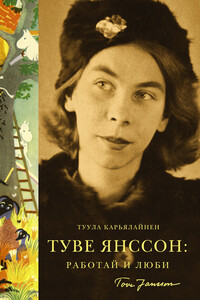
Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
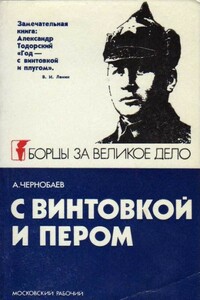
В ноябре 1917 года солдаты избрали Александра Тодорского командиром корпуса. Через год, находясь на партийной и советской работе в родном Весьегонске, он написал книгу «Год – с винтовкой и плугом», получившую высокую оценку В. И. Ленина. Яркой страницей в биографию Тодорского вошла гражданская война. Вступив в 1919 году добровольцем в Красную Армию, он участвует в разгроме деникинцев на Дону, командует бригадой, разбившей антисоветские банды в Азербайджане, помогает положить конец дашнакской авантюре в Армении и выступлениям басмачей в Фергане.
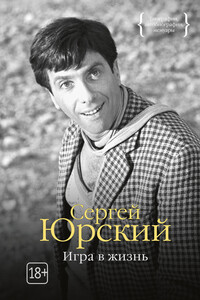
Имя Сергея Юрского прочно вошло в историю русской культуры XX века. Актер мирового уровня, самобытный режиссер, неподражаемый декламатор, талантливый писатель, он одним из немногих сумел запечатлеть свою эпоху в емком, энергичном повествовании. Книга «Игра в жизнь» – это не мемуары известного артиста. Это рассказ о XX веке и собственной судьбе, о семье и искусстве, разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии. В этой документальной повести действуют многие известные персонажи, среди которых Г. Товстоногов, Ф. Раневская, О. Басилашвили, Е. Копелян, М. Данилов, А. Солженицын, а также разворачиваются исторические события, очевидцем которых был сам автор.
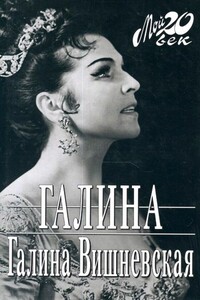
Книга воспоминаний великой певицы — яркий и эмоциональный рассказ о том, как ленинградская девочка, едва не погибшая от голода в блокаду, стала примадонной Большого театра; о встречах с Д. Д. Шостаковичем и Б. Бриттеном, Б. А. Покровским и А. Ш. Мелик-Пашаевым, С. Я. Лемешевым и И. С. Козловским, А. И. Солженицыным и А. Д. Сахаровым, Н. А. Булганиным и Е. А. Фурцевой; о триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве и жизненном предательстве. «Эту книга я должна была написать, — говорит певица. — В ней было мое спасение.
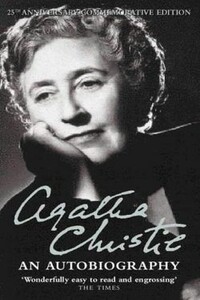
Агата Кристи — непревзойденный мастер детективного жанра, \"королева детектива\". Мы почти совсем ничего не знаем об этой женщине, о ее личной жизни, любви, страданиях, мечтах. Как удалось скромной англичанке, не связанной ни криминалом, ни с полицией, стать автором десятков произведений, в которых описаны самые изощренные преступления и не менее изощренные методы сыска? Откуда брались сюжеты ее повестей, пьес и рассказов, каждый из которых — шедевр детективного жанра? Эти загадки раскрываются в \"Автобиографии\" Агаты Кристи.

Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.