Музыка жизни - [3]
Соответственными в нашем доме были и квартиры — огромные, со многими просторными светлыми комнатами, с высокими потолками, с большим коридором. В комнатах были белые изразцовые печи. Я еще помню, как мы их топили: центральное отопление в наш дом провели незадолго до войны, в конце 1930-х годов. Правда, имелись в квартирах и не столь светлые помещения. В свое время они предназначались для прислуги и находились обычно рядом с кухней. В нашей квартире тоже была такая крошечная, в 5 кв. метров комнатка без окна: свет в нее проникал из кухни через застекленное окно. (Много позже, когда я уже вышла замуж, мне пришлось некоторое время ютиться в этой каморке, чтобы не стеснять родителей в их комнате.)
После 1917 года в такие огромные квартиры стали переселять жильцов со скромным достатком, выделяя для каждой семьи по комнате. Получили такую комнату и мои родители и прожили в ней до конца жизни. Хотя впоследствии отец стал кандидатом наук, профессором и мог получить отдельную квартиру в одной из московских новостроек, он не захотел расставаться с нашей общей квартирой, видимо, как строитель, ценя солидность постройки нашего старого дома, привыкнув к его добротности и продуманному комфорту.
Мое детство и юность прошли в обстановке коммунальной квартиры, но память не сохранила негативных воспоминаний от этой, чисто советской реальности. Наоборот, мне помнится только хорошее. Конечно, специфический быт таких квартир многократно (порой очень талантливо и красочно) описан, высмеян, выставлен в самом неприглядном виде. Чего стоит знаменитая «Воронья слободка» из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова! Да, в силу трудностей с жильем люди с разным, порой полярным уровнем культуры и воспитания, иногда с прямо противоположными представлениями об этике, с разными характерами и темпераментом долгие годы были вынуждены жить вместе на ограниченном пространстве общей квартиры; были вынуждены в самом прямом смысле терпеть друг друга, приспосабливаться (некоторые, правда, не утруждали себя этим, отсюда и многие проблемы).
Естественно, жизнь в таких обстоятельствах была, прямо скажу, не сахар. Но ведь все зависит от людей: одни в этих непростых условиях проявлялись с лучшей стороны, другие демонстрировали всю, так скажем, незатейливость своей натуры. Поэтому, поминая недобрым словом коммунальные квартиры, не надо, как это обычно любят делать у нас, ударяться в крайность: у каждой медали две стороны. Ведь через эти общие квартиры прошло не одно поколение наших сограждан, и, несмотря на все издержки такого вынужденного бытия, большинство из них выросло и стало достойными людьми, а многие и просто выдающимися. По своему жизненному опыту знаю, что именно начальные годы моей жизни в большой квартире научили меня разбираться в людях, правильно выбирать стиль отношений, воспринимать их во всем разнообразии. Это была хорошая школа познания жизни и умения выживать в ней, и уроки, полученные в такой школе, трудно переоценить.
Моим родителям в определенном смысле повезло — у нас были довольно приятные соседи, да и мама была общительным, открытым человеком и умела со всеми ладить. А люди всегда это ценят. Своеобразным центром нашей квартиры была кухня — не место извечных, классических «коммунальных» раздоров и склок, а самый настоящий центр общения, своего рода клуб интересных встреч, «народный университет» на дому. Здесь большей частью и велись самые разнообразные разговоры, исподволь шел обмен и взаимообогащение жизненным опытом, знаниями, происходило то, что сейчас называют духовной и душевной подпиткой друг друга. Именно это имел в виду Евгений Евтушенко, когда писал в своем «Плаче по коммунальной квартире»:
И еще одна его строка:
Это очень точное наблюдение. Со мной могут не согласиться, но мне кажется, что человека не могут унижать какие-то внешние факторы — важно, чтобы он сам себя не чувствовал униженным, чувствовал себя личностью, знал себе настоящую цену. Все остальное — вторично, бытовой антураж. Хотя должна признать, что для очень многих, чтобы самоутвердиться, именно внешняя сторона жизни является определяющей, а порой и единственным доказательством личностной и социальной полноценности. Достаточно оглянуться вокруг — примеров хоть отбавляй…
Возвращаюсь к атмосфере, царившей в нашей квартире. Тяга соседей к общению друг с другом, к доверительным разговорам именно на кухне происходила подсознательно — в этом было что-то похожее на то, как в очень отдаленные, патриархальные времена к очагу собирался весь род. А ведь все мы, люди, — один большой род, человеческий род.
В этих «посиделках» (или «постоялках») на нашей кухне (и конечно, в других, «благополучных», в смысле взаимоотношений, квартирах) было нечто объединяющее: люди тянулись друг к другу, и это было их естественной потребностью. Что объединяло наших соседей? Время ли, одинаково непростое для всех? Общие ли нелегкие проблемы? Или что-то другое — наша неизбывная российская соборность, генетически заложенное в нас стремление жить и выживать сообща, миром?.. Наверное, все в комплексе… Люди старались держаться вместе.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.
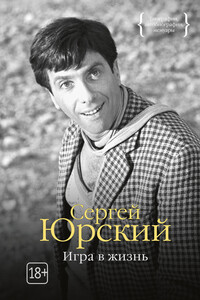
Имя Сергея Юрского прочно вошло в историю русской культуры XX века. Актер мирового уровня, самобытный режиссер, неподражаемый декламатор, талантливый писатель, он одним из немногих сумел запечатлеть свою эпоху в емком, энергичном повествовании. Книга «Игра в жизнь» – это не мемуары известного артиста. Это рассказ о XX веке и собственной судьбе, о семье и искусстве, разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии. В этой документальной повести действуют многие известные персонажи, среди которых Г. Товстоногов, Ф. Раневская, О. Басилашвили, Е. Копелян, М. Данилов, А. Солженицын, а также разворачиваются исторические события, очевидцем которых был сам автор.
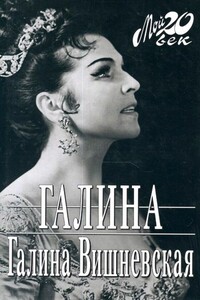
Книга воспоминаний великой певицы — яркий и эмоциональный рассказ о том, как ленинградская девочка, едва не погибшая от голода в блокаду, стала примадонной Большого театра; о встречах с Д. Д. Шостаковичем и Б. Бриттеном, Б. А. Покровским и А. Ш. Мелик-Пашаевым, С. Я. Лемешевым и И. С. Козловским, А. И. Солженицыным и А. Д. Сахаровым, Н. А. Булганиным и Е. А. Фурцевой; о триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве и жизненном предательстве. «Эту книга я должна была написать, — говорит певица. — В ней было мое спасение.
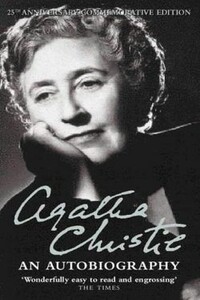
Агата Кристи — непревзойденный мастер детективного жанра, \"королева детектива\". Мы почти совсем ничего не знаем об этой женщине, о ее личной жизни, любви, страданиях, мечтах. Как удалось скромной англичанке, не связанной ни криминалом, ни с полицией, стать автором десятков произведений, в которых описаны самые изощренные преступления и не менее изощренные методы сыска? Откуда брались сюжеты ее повестей, пьес и рассказов, каждый из которых — шедевр детективного жанра? Эти загадки раскрываются в \"Автобиографии\" Агаты Кристи.

Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.