Музонька - [3]
Носатый, угреватый, но смешно косящийся на каждое зеркало Михаил ни у одной из них не вызвал интереса. Он был единственный, кого избегала Таня Лужкова, считая его упырем. А какая-то красавица Вера увидела его, избрала — и нас заставила глядеть на него новыми глазами, настоятельно стирать случайные черты и искать глубины. И, кстати, в самом деле: его презрение к властям, его ученые занятия, и его честное смущение — разве не заслуживают всяческого уважения? И мы стали его хвалить и спрашивать его советов. Это сотворил человек, которого мы не видели.
Какая она, Музонька?
И вот громко хлопают входные двери — наружные, внутренние — и появляется чета Стригуновых, впереди он, она за руку за ним. Пока они сдают пальто и причесываются, любопытные успевают спуститься в вестибюль, пристроиться на широкой лестнице и над ней, по бокам от нее. Кто-то делает вид, что он здесь «так», а кто-то, не скрываясь, разглядывает пришедших с привычной уличной агрессией. Оно ж у нас в крови. Конечно, это выглядело неприлично: встречающих набилось слишком много, и они застывали в неестественных позах, образуя скульптурные группы, достойные эстетики шахтерских парков в Кузбассе.
Вот она какая, Вера-Музонька! Всем запомнилось, как сначала робел-бодрился Стригунов, раздвигая свои недоразвитые плечи, он краснел, бормотал ей что-то явно невпопад и будто бы не замечал толпы встречавших с ее пристальным и наглым вниманием. То-то сердце у него стучало! И как широко, счастливо, самодовольно заулыбался, решившись взглянуть на общественность и прочитав ее отклик «ого-го!», очевидно выраженный в шелесте и бормотании множества губ.
Музонька Стригунова стояла прямо под старинной люстрой, заливавшей ее густым оранжевым сиропом, и как-то необидно, по-свойски усмехалась на весь этот цирк, потирая замерзшие руки. Она была не просто хороша, ни в чем не обиженная матерью-природой. В ней было две стати — русская и татарская, и эта сибирская благодать проявлялась в переменном сочетании светло-русых волос и черных глаз, самоварного славянского носика и легкого, росомашьего разбега скул, твердости очертаний всего, что выпукло, и легкости, тонкости, воздушности головы, плеч, пояса, текинских, смуглых, конечно, ног с ювелирными маленькими коленями. И глядя на ее ноги в открытых лодочках с пряжкой, легко было представить, как подлец Стригунов, не удержавшись, целует мимо пряжки нежный подъем ее стопы.
И было в ней то, о чем позднее скажет потертый бабник Нирванер, по кличке Сулико: «О такой даме никогда не скажешь, даже не подумаешь грязно, похабно. Но, ребята, если вдуматься, это и есть ее главный недостаток. С ней не расслабишься».
Стоя в тылах, мы услышали треск разбитого стакана. Вскрикнула, зажимая себе рот, Леся Перегудова — куда ей было до Веры Огаревой! «Мой милый, что тебе я сделала!» — равнодушно, походя, процедила на это Нина Сухарева, не отрываясь от хищного, во все глаза, изучения Веры. «Какая у Миши жена! Он, наверное, очень счастлив, да, друзья? — сказала Раиса Ивановна, — сто часов счастья. Она похожа на юную Веронику Тушнову, не находите?» Мы никогда не видели Тушнову, но уверенно ответили «да».
2
Родители целенаправленно, планово назвали ее Верой. Отец, Иван Трофимович, тогда, в 1948 году, инструктор райкома партии, и мать, Роза Хасановна, работница библиотеки политпроса, мечтали о трех дочерях — Вере, Надежде и Любови. После войны новые люди очень хотели жить большой семьей, и имена эти часто давали дочерям.
Они пока жили в коммуналке, у них продолжалась крепкая фронтовая любовь; верили в партию, Сталина, в будущее могучей страны, которая уже завтра будет сознательной и зажиточной; и, в отличие от «бескрылых пернатых» (как с сожалением аттестовал Иван соседей — обидно, что многовато было в бескрайней стране таких «примусников»), имели крепкую надежду на улучшение жилищных условий. Коммуналка, на фоне фронтовых дворцов, не торопилась их заесть, надежда давала стойкость, поэтому жизнь с общей кухней и фанерными перегородками казалась им необходимой, нужной прививкой коммунистического быта, не самоцель и грядущая квартира — временный этап на стезе движения советских граждан к общежитиям высокого комфорта и повышенного идейного и культурного их общения.
На углу улиц Крылова (не баснописца) и Гончарова (не романиста), на лысом пригорке, где из поколения в поколение, до сих пор, местные жиганы жгли костры и играли в пустопорожние орлянку и зоську, — обгоняя время, строили отличный трехэтажный дом со всеми коммунальными удобствами. Взмыленные лошади не успевали подвозить кирпичи, а упарившиеся строители — свернуть повторную с рассвета козью ножку.
Устроить перекур через временную неисправность механизмов, да еще при возведении партийного дома, тогда остерегся бы даже законченный лодырь. С другой стороны, наличные механизмы, типа «ворот», были до того просты, что, можно сказать, таковыми и не являлись.
Чтобы в строителях не иссякала бодрость, вкопали столб, повесили на нем динамик-громкоговоритель под козырьком, включили его на полную мощность — и он орал с 6 утра до 12 ночи, от гимна и до гимна. Соседи, рабочие мучались, но лазить на голый столб дураков не находилось. Так и трудились, с весны до сдачи, которая состоялась, конечно же, 6 ноября, и недоделки, дополнительно скрадывались еще и в грохоте духового оркестра, от которого у новоселов опасно сотрясались грудные клетки.
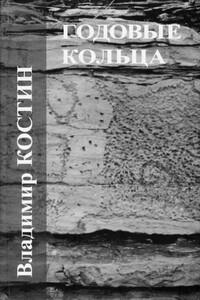
Книга Костина, посвящённая человеку и времени, называется «Годовые кольца» Это сборник повестей и рассказов, персонажи которых — люди обычные, «маленькие». И потому, в отличие от наших классиков, большинству современных наших писателей не слишком интересные. Однако самая тихая и неприметная провинциальная жизнь становится испытанием на прочность, жёстким и даже жестоким противоборством человеческой личности и всеразрушающего времени.
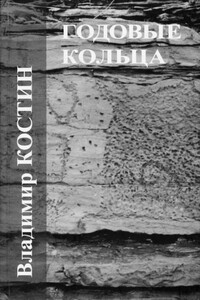
Книга Костина, посвящённая человеку и времени, называется «Годовые кольца» Это сборник повестей и рассказов, персонажи которых — люди обычные, «маленькие». И потому, в отличие от наших классиков, большинству современных наших писателей не слишком интересные. Однако самая тихая и неприметная провинциальная жизнь становится испытанием на прочность, жёстким и даже жестоким противоборством человеческой личности и всеразрушающего времени.
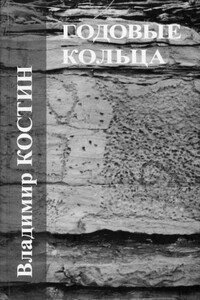
Книга Костина, посвящённая человеку и времени, называется «Годовые кольца» Это сборник повестей и рассказов, персонажи которых — люди обычные, «маленькие». И потому, в отличие от наших классиков, большинству современных наших писателей не слишком интересные. Однако самая тихая и неприметная провинциальная жизнь становится испытанием на прочность, жёстким и даже жестоким противоборством человеческой личности и всеразрушающего времени.
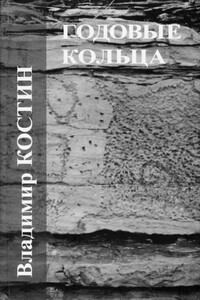
Книга Костина, посвящённая человеку и времени, называется «Годовые кольца» Это сборник повестей и рассказов, персонажи которых — люди обычные, «маленькие». И потому, в отличие от наших классиков, большинству современных наших писателей не слишком интересные. Однако самая тихая и неприметная провинциальная жизнь становится испытанием на прочность, жёстким и даже жестоким противоборством человеческой личности и всеразрушающего времени.
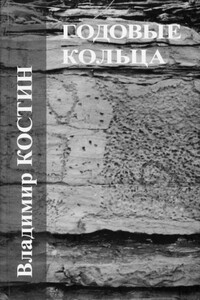
Книга Костина, посвящённая человеку и времени, называется «Годовые кольца» Это сборник повестей и рассказов, персонажи которых — люди обычные, «маленькие». И потому, в отличие от наших классиков, большинству современных наших писателей не слишком интересные. Однако самая тихая и неприметная провинциальная жизнь становится испытанием на прочность, жёстким и даже жестоким противоборством человеческой личности и всеразрушающего времени.
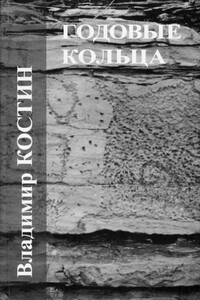
Книга Костина, посвящённая человеку и времени, называется «Годовые кольца» Это сборник повестей и рассказов, персонажи которых — люди обычные, «маленькие». И потому, в отличие от наших классиков, большинству современных наших писателей не слишком интересные. Однако самая тихая и неприметная провинциальная жизнь становится испытанием на прочность, жёстким и даже жестоким противоборством человеческой личности и всеразрушающего времени.
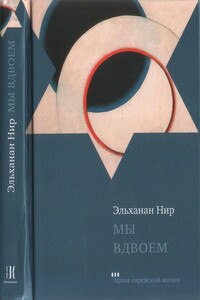
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
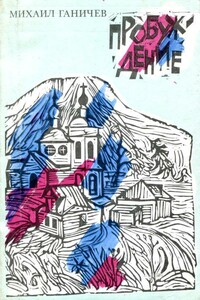
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.
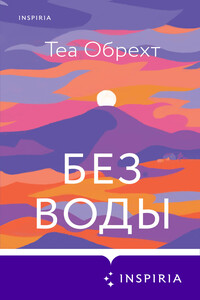
Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.
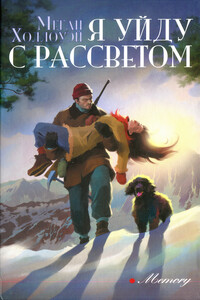
Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.
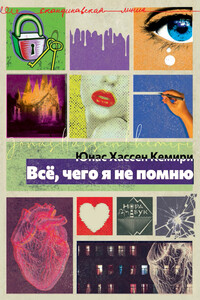
Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.