Мост к людям - [51]
— Хорошо, что вы пришли… — Он почему-то смутился и, посматривая то на меня, то на Панча, неожиданно предложил: — Может, пойдем в другую комнату или пройдемся по улице?
У меня все похолодело. Нежелание говорить со мной в присутствии постороннего человека могло означать лишь одно — что стихи мои осуждены на смерть. Я онемел и готов был провалиться сквозь землю, не способный даже воздать должное тактичности моего судьи, который хоть и собирался меня убить, но хотел по крайней мере помиловать мое человеческое достоинство.
Мы вышли и направились по Пушкинской улице в сторону Совнаркомовской. Шли и молчали, с приговором своим Тычина все еще тянул.
Вдруг он заговорил, словно подслащивая пилюлю:
— Может, пообедаем? Вы еще не обедали?
Я был ни жив ни мертв. В ответ что-то невнятно пробормотал, и мое бормотание ему, наверное, показалось чем-то похожим на согласие.
— Так, может, пойдем в Дом Блакитного[5]? — оживился он. — Я иногда туда хожу — там ничего, кормят неплохо.
Мне было все равно. Разве не безразлично человеку, где и как он пообедает перед тем, как его убьют? Я шел, будто меня тянули на веревке, и ничего не видел впереди себя. Чувствовал только, что Павло Григорьевич искоса на меня посматривает — не то испуганно, не то сочувственно, словно выбирая место, куда лучше ударить, чтобы и приговор исполнить и чтобы не было очень больно.
Вдруг он выхватил из-под мышки мою тетрадь и весело вскрикнул:
— А знаете, ничего себе, неплохо! Что-то такое, знаете, есть!.. Я отобрал кое-что: там, знаете, гудки гудят — кажется даже, что эти гудки слышишь.
Я не поверил своим ушам, — то, что Тычина сейчас говорил, было настолько невероятным, что я даже остановился.
— Вы как, — продолжал он, — не возражаете, если для первого раза… Я выбрал три стихотворения.
Нет, нет, я не возражал. Я смотрел на Павла Григорьевича и еще не был уверен, что правильно его понял. Но лицо его сияло, как будто кто-то похвалил его собственные произведения и ему радостно это слышать.
И только на миг в моей голове промелькнуло: почему же он мне этого не сказал в присутствии Панча? Неужели изменил свое решение вот здесь, на улице, под влиянием моей кислой физиономии, боясь, что я не переживу его приговора?! Это немного обижало, но я быстро пришел в себя: все-таки три стихотворения были одобрены, и, как для всех начинающих, возможность увидеть свои произведения на страницах самого уважаемого журнала была куда важнее обстоятельств, при которых это происходило.
Но так было тогда. Теперь же, почти десять лет спустя, меня больше интересовали именно обстоятельства, и я спросил:
— Говоря юридическим языком, это было оправдание или помилование?
— Э, какое это имеет сейчас значение! — отмахнулся Павло Григорьевич.
— А все-таки? — не отступал я.
— Думаете, меня никогда не миловали? — спросил он, вместо того чтобы ответить прямо. — Коцюбинский иногда хвалил, а ведь я видел, что не за что. Лишь бы божья искра была, а что рифма плохая, не беда.
Значит, тогда он помиловал… Может, лучше было бы осудить? У меня было бы напечатано меньше плохих стихотворений — от этого выиграли бы и я, и литература. А может, все-таки лучше переоценить «искру божью» в плохом стихотворении, чем убить ее в человеческой душе, оставив молодого человека наедине со своим разочарованием и незнанием, как быть дальше?
— Вы благородный человек, — сказал я растроганно.
— Ну вот, уже и благородный, — отмахнулся он и тихо кашлянул. — Я в тот день тоже оказался в ваших руках. Забыли? А я помню.
Я не сразу понял, на что он намекает. Да и звучало это как-то неправдоподобно: Тычина у меня в руках, да еще тогда!
Оказывается, он запомнил даже то, что можно было легко забыть. Мелочь, которой я не придал значения, потому что просто не понял ее тогда. Но Тычина все помнил — такой у него был характер. Особенно услугу или обыкновенное проявление доброй воли по отношению к нему. И вот теперь, через десять лет, он мне напомнил.
Это произошло именно в тот день, когда мы вдвоем с Павлом Григорьевичем шли вверх по Пушкинской, к Дому Блакитного. Спустились в полуподвал — в ресторане почти никого не было, мест сколько угодно. Но Павел Григорьевич предложил почему-то сесть у самых дверей, как бывает на неинтересном собрании, — чтобы удобно было удрать незаметно. Мы едва успели заказать обед, как в дверях появилась фигура плужанского «папаши» Сергея Пилипенко. Не снимая своей длинной бекеши со смушковым воротником, он сел за наш столик, довольно решительно отодвинул мою тарелку и положил свой портфель. Меня он не замечал, словно я и не существовал на свете.
— Что ж, Павло Григорьевич, время вам на высшую ступень! — произнес он, улыбаясь в свои пышные усы.
Тычина, как видно, не понял, что имеется в виду, но форма высказывания обеспокоила его, и он задвигался на стуле, как делал всегда, когда смущался или волновался. На лице появилась неуверенная улыбка, руки механически сняли с носа пенсне и стали нервно протирать стеклышки белым платочком.
— Не пора ли вам в академики? — неожиданно спросил Пилипенко и посмотрел на Павла Григорьевича лукаво и таинственно.

Второй том новой, полной – четырехтомной версии воспоминаний барона Андрея Ивановича Дельвига (1813–1887), крупнейшего русского инженера и руководителя в исключительно важной для государства сфере строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, искусственных сухопутных коммуникаций (в том числе с 1842 г. железных дорог), портов, а также публичных зданий в городах, начинается с рассказа о событиях 1842 г. В это время в ведомство путей сообщения и публичных зданий входили три департамента: 1-й (по устроению шоссе и водяных сообщений) под руководством А.

В 1940 году в Гааге проживало около восемнадцати тысяч евреев. Среди них – шестилетняя Лин и ее родители, и многочисленные дядюшки, тетушки, кузены и кузины. Когда в 1942 году стало очевидным, чем грозит евреям нацистская оккупация, родители попытались спасти дочь. Так Лин оказалась в приемной семье, первой из череды семей, домов, тайных убежищ, которые ей пришлось сменить за три года. Благодаря самым обычным людям, подпольно помогавшим еврейским детям в Нидерландах во время Второй мировой войны, Лин выжила в Холокосте.

«Весна и осень здесь короткие» – это фраза из воспоминаний участника польского освободительного восстания 1863 года, сосланного в сибирскую деревню Тунка (Тункинская долина, ныне Бурятия). Книга повествует о трагической истории католических священников, которые за участие в восстании были сосланы царским режимом в Восточную Сибирь, а после 1866 года собраны в этом селе, где жили под надзором казачьего полка. Всего их оказалось там 156 человек: некоторые умерли в Тунке и в Иркутске, около 50 вернулись в Польшу, остальные осели в европейской части России.
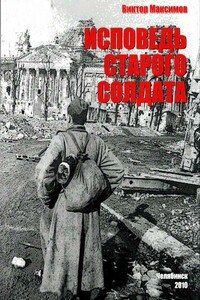
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
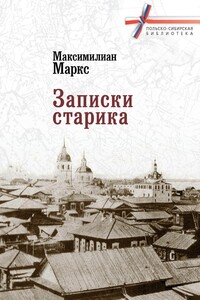
Дневники Максимилиана Маркса, названные им «Записки старика» – уникальный по своей многогранности и широте материал. В своих воспоминаниях Маркс охватывает исторические, политические пласты второй половины XIX века, а также включает результаты этнографических, географических и научных наблюдений. «Записки старика» представляют интерес для исследования польско-российских отношений. Показательно, что, несмотря на польское происхождение и драматичную судьбу ссыльного, Максимилиан Маркс сумел реализовать свой личный, научный и творческий потенциал в Российской империи. Текст мемуаров прошел серьезную редакцию и снабжен научным комментарием, расширяющим представления об упомянутых М.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.