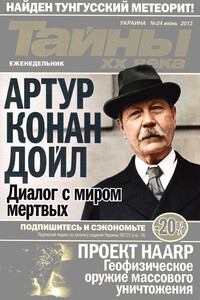Моссад. История лучшей в мире разведки - [2]
Кроме того, совершенно очевидно, что в таком специфическом государственном образовании на социально-политическую ситуацию в стране влияют религиозные процессы и тенденции; позиции религии — неоднородной, кстати, хотя и государственной, — очень сильны. Точно так же политические действия, векторы иммиграции (алии) и реалии всех основных государственных институтов постоянно изменяют обстановку — точно так же, как сами они зависят от ситуации и подвержены ее влиянию.
О некоторых из социальных институтов, например о роли армии в израильском обществе, в других исследованиях сказано уже немало. Здесь пойдет речь о службах, обеспечивающих безопасность государства методами разведки и контрразведки, — не потому, что таких исследований не существовало или автор располагает принципиально иными сведениями, переворачивающими уже сложившиеся представления, а скорее всего потому, что историческая дистанция дает больше оснований для их беспристрастной оценки и анализа. Некоторые из процессов, попросту не замеченных, не проявленных в должной мере, сейчас, на рубеже веков, развернулись вполне очевидно. Другие же явления замалчивались в исследованиях или давались с большими натяжками и оговорками, скорее всего из опасения выглядеть «непатриотичными». Но по нашему глубокому убеждению, патриотизм никак не предполагает за-шоренность и замалчивание негативных явлений.
ЧАСТЬ 1
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…
Глава 1. ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ
Итак, официальное начало.
…30 июня 1948 г. шестеро мужчин в хаки поодиночке нырнули в здание № 85 по улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве, где на втором этаже дома под вывеской «Консультационные услуги» располагалась штаб-квартира организации, известной под названием «Шаи».>[1] Это была служба разведки подпольной армии палестинских евреев, армии, известной ранее, до получения Израилем независимости, как «Хагана» («Оборона»). Управление «Шаи» также называли аббревиатурой РСЕА — разведывательная служба Еврейского агентства.
Собственно «Шаи» на то время занималась общей разведкой и сбором информации, а другое управление при ЕА, управление «Моссад» — контрразведывательными и специальными операциями; еще, так сказать, в «эмбриональном периоде» израильские службы разведки и контрразведки уже были весьма знамениты как своей эффективностью, так и жесткостью действий.
Теперь пришло время изменить не только название, но и структуру и особенности действий. Через 6 недель после официального провозглашения (15 мая 1948 г.) Государства Израиль «Хагана» вошла в состав вооруженных сил страны (точнее, стала их основой), что ознаменовало конец организации «Шаи» — и рождение нового израильского разведсообщества.
Люди, собравшиеся в тот день в Тель-Авиве, были руководителями (а иногда и основателями) секретных служб, составляющих современное израильское разведывательное сообщество. Эти люди, служащие только-только рожденного государства, все без исключения были далеко не новичками, все обладали огромным, как правило, многолетним опытом проведения тайных операций: шпионаж, контрабанда, сбор информации любыми, даже сверхжесткими методами — они делали все, что требовали обстоятельства, во имя создания страны и обретения ею независимости, а также утверждения в ней идеалов сионизма. Немного примеров в истории, когда страна (а не просто форма государственности, как, скажем, иерократия, коммунизм или нацизм) создавалась как воплощенная идея.
О реальном участии руководителей разведки во внутренней политике Израиля, или, как считают более уместным сказать некоторые авторы, «в процессе становления и развития демократии», сведений не так много.
Апологеты утверждают, что руководители спецслужб «всегда оставались на позициях наблюдателей и никогда не принимали полноценного участия в политическом процессе». Равнялись, дескать, на англичан: с одной стороны, на английских контрразведчиков, которые в свое время достаточно жестко и эффективно вели борьбу с подпольным движением евреев в Палестине, а с другой стороны — на лондонских политиков. Им нравились и те и другие. Но весь исторический опыт, накопленный в мире, свидетельствовал о том, что не существовало рецепта, как защитить страну во время войны, не подавив одновременно демократию, — особенно на Ближнем Востоке, чуждом западным представлениям и ценностям. Пожалуй, только у англичан накопился кое-какой опыт; теперь надо было попытаться им воспользоваться — и те, мягко говоря, резкие и кардинальные действия, которые предпринимались разведчиками и вызывали самую не-однозначную реакцию, были исканиями, предпринятыми с самыми добрыми намерениями.
Есть и другие мнения. Наверное, никак нельзя сбрасывать со счетов, что многие высшие руководители Израиля — вплоть до премьер-министров и президентов — достаточно долго проработали на руководящих постах в разведывательном сообществе или хотя бы служили в каком-либо из его подразделений, а у прочих ведущих политиков опытные разведчики были постоянными консультантами и штатными советниками. Важнейшие департаменты правительства, в частности Министерство иностранных дел, не говоря уже о МВД, работало и работает в настолько тесной взаимосвязи с разведчиками, что порой трудно различить официальную и тайную политику. И более чем сомнительными кажутся предположения об их «демократических» ориентирах. Разведчики всех уровней исповедовали скорее тоталитарные нормы и просто ограничивались в действиях идеологическими (сионизм) мотивами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.
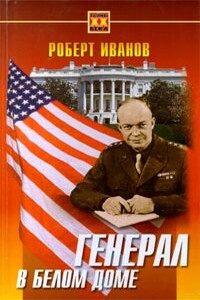
Дуайт Эйзенхауэр – выдающийся военный и государственный деятель США, одна из немногих ключевых фигур, определявших ход мировой истории второй половины XX века. В России помнят и высоко ценят его вклад в разгром фашистской Германии, а также первые попыткинормализации отношений между СССР и США, предпринятые им на посту президента США в 1953-1961 годах. Книга написана на основе американских и отечественных архивов, документов, мемуаров, новейших работ американских и отечественных историков.
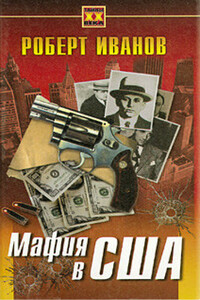
Сальваторе Лучано, Фрэнк Костелло, Аль Капоне — эти имена хорошо известны не только одним криминалистам. Мафия в США давно утратила свой сицилийский колорит и уже не означает деятельность преступных группировок, состоящих из только американцев итальянского происхождения. Сегодня это прочно утвердившееся в жизни Соединенных Штатов явление, пронизывающее самые разные ее сферы. О корнях, истории, главных действующих лицах, международных связях этого зловещего феномена рассказывается в книге Роберта Иванова — известного специалиста по Соединенным Штатам Америки.
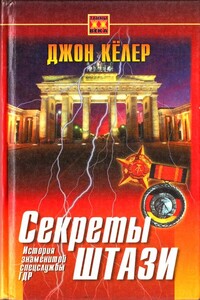
За сорок лет существования Германской Демократической Республики ее спецслужба, известная во всем мире под названием Штази, заслужила репутацию самой зловещей и эффективной организации в ряду подобных ей в странах бывшего соцлагеря. Созданное в конце 40-х годов при участии советского НКВД, министерство госбезопасности ГДР было опорой и верным помощником восточногерманского руководства.Документальное исследование Д. Кёлера основано на многочисленных рассекреченных материалах спецслужб ФРГ, ГДР и США, интервью с политическими заключенными, бывшими разведчиками и государственными чиновниками.