Морские повести - [61]
— Романтики? — Дорош внимательно посмотрел на мичмана. — Чепуха это все — романтика. Пусть ею господин Станюкович в своих книжицах занимается, у него неплохо выходит.
— Видишь, ты уж и на Станюковича нападать стал. А ведь зря, талантливый писатель. Я когда его «Коршуна» прочел…
— Возможно, — безразлично перебил Дорош. — Но ему все было ясно, его ничего не тревожило. А тут…
— Что тут? — насторожился мичман.
— А тут… главного в жизни не понимаешь! — Дорош помолчал. — Вот у меня есть новый матрос: Копотей. Видел его?
Мичман кивнул: и что же?
— Вот он, кажется, понимает… А я — нет!
— Это каким же путем пришел ты к такому скорбному умозаключению? — насмешливо полюбопытствовал Терентин, но Дорош словно не заметил его тона.
— Я и сам не знаю каким, — сознался он. — Но по тому вниманию, с каким матросы слушают его, как уважительно относятся они к каждому его слову, нетрудно понять, что он для них — настоящий авторитет. Так безоговорочно верят только людям, знающим какую-то очень большую правду, недоступную другим.
— Авторитет? Ну, это ты уж, знаешь, того!.. Авторитет, брат, штука, приложимая лишь к людям вроде нас с тобой, — возразил Терентин.
Дорош устало покачал головою: нет, это неправда. Он вдруг спросил, глядя в упор на мичмана:
— Слушай, Андрюша, ты никогда не задумывался: вот если бы в России случилась… революция: что бы ты стал делать?
— Как… революция? — растерянно переспросил Терентин.
— А очень просто. Как совершаются вообще революции… Ну так что же ты все-таки стал бы делать?
— То же, что при землетрясении на Невском, — отшутился Терентин. — Вероятность не большая. Да ты что, в самом деле, или переутомился? Несешь какую-то чепуху несусветную — матрос, авторитет, революция… Моя нянюшка покойная говаривала в таких случаях: окстись, голубчик!.. — И он деланно расхохотался.
— Вот видишь, и ты не знаешь, — грустно возразил Дорош и помедлил. — А Копотей — тот знает! — И он задумчиво побарабанил суставами пальцев по шахматной доске.
— Да что знать-то? — продолжал допытываться мичман. — Нечего сказать, хорош офицер флота, добровольно признающий, что какой-то матрос стоит выше него! Не вздумай когда-нибудь высказать эту ересь в присутствии Небольсина: Аркадий Константинович никогда тебе этого не простит. А того паче — отец Филарет.
— Ах, милый мичманок, все это не то! — вдруг лениво прервал Дорош. — Делай-ка лучше первый ход своими белыми…
Так и не допытался мичман Терентин, в чем же, интересно, жизненное преимущество матроса Копотея. Дорош играл рассеянно, путал ходы, а в середине партии вдруг смешал фигуры в одну кучу, поднялся и устало потянулся:
— Надоело играть. Спать хочу чертовски!.. Ты не сердись, Андрей, но я, кажется, действительно устал.
…Мичман постоял у борта и медленно пошел вдоль палубы.
Возле люка, ведущего в кубрик матросов роты лейтенанта Дороша, он остановился в нерешительности. Хорошо бы осторожненько потолковать с этим Копотеем: что, интересно, нашел в нем Алексей? Может, и вправду какой-нибудь матросский пророк объявился.
Он уже намеревался спуститься вниз, однако неожиданно остановился: снизу, из кубрика, доносился разговор, заставивший мичмана насторожиться.
— Так как же, братцы? — говорил кто-то, и мичман узнал по голосу Копотея. — Там, в Петербурге, кровь наших отцов, братьев и сестер пролита, а мы здесь что — в молчанку играть будем?.. Ведь вы подумайте: стреляли по безоружным людям!.. А там, поди, женщины были, дети… — Голос Копотея звучал напряженно, взволнованно.
— Да, может, ничего этого и не было? Может, выдумки все одни? Как же это так, чтобы стрелять по безоружным? — растерянно возразил кто-то в кубрике.
— Не может? Нет уж, это верные люди рассказывают. Во всех заграничных газетах, говорят, в подробности все описано. Тысячи полегли на Дворцовой площади. Тысячи. Вы только представьте себе это!
— Погоди, Евдоким, не горячись. Ну ты сам посуди: что мы здесь можем сделать? Мы же по рукам и ногам связаны. Знаешь корабельные порядки…
Терентин напряг слух. Это, кажется, говорил богатырь комендор Кривоносов: мичман не раз любовался телосложением этого Геркулеса в матросской робе.
— Что сделать? Очень многое! Или, думаете, лучше молчать? А совесть дозволит?.. Что можно сделать? В первую голову надо нашему брату матросу всю правду рассказать насчет того, что произошло в Питере девятого января.
«Девятого января? — мичман в недоумении напрягал память: — Любопытно! А что там могло произойти?»
И ему вдруг стало обидно, что вот его, офицера, держат в полном неведении. Уж наверняка командованию все известно, а он тут, как дурак, стоит и прислушивается к чужому разговору.
— Что сделать? — повторил Копотей. — Матросам правду расскажем, листовку, если надо, выпустим.
Дослушать этот разговор мичману не удалось. Он заметил неожиданно, что неподалеку от него, возле угольной горы, почему-то пригнулся на корточках отец Филарет: он приложил ладонь к уху и тоже прислушивается к разговору в кубрике.
Мичман кашлянул и пошел дальше, так и не спустившись к матросам.
Он раздумывал: доложить командиру крейсера? Небольсину? Вроде бы и не докладывать нельзя, а доложишь — Алексею наверняка всю карьеру испортишь: Копотей и те, другие, — подчиненные Дороша. А в таких делах пощады ждать не приходится.

Георгий Халилецкий — известный дальневосточный писатель. Он автор книг «Веселый месяц май», «Аврора» уходит в бой», «Шторм восемь баллов», «Этой бесснежной зимой» и других.В повести «Осенние дожди» он касается вопросов, связанных с проблемами освоения Дальнего Востока, судьбами людей, бескомпромиссных в чувствах, одержимых и неуемных в труде.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
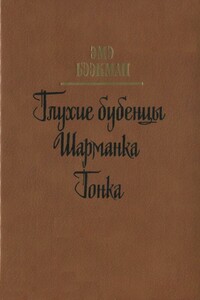
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.