Мордовский марафон - [27]
Вечером, перед самым отбоем слышим:
— Мужики, иногда я храплю — толкните, если слишком уж…
Час от часу не легче! Храпел он и в самом деле ужасно… Да что же сделаешь — на то она и камера: храп — еще не повод для изгнания.
Ну ладно, сидим день, два — он все так же молчит: с работы придем, он сапоги скинет, влезет на нары и за книгу. Автору это понравилось: он всегда считал, что, будь ты расподлец, стукач или даже «козел», лишь бы сидел тихо и не мешал ему книги читать и думать свою думушку. Даже такой-то, с изъянцем, и лучше порой какого-нибудь шумливого честняги — такого-то легче усмирить, рявкнув: «А ну ты, змей, не забывайся!..»
Минуло дней пять-шесть, и вот как-то в цеху подходит к автору Альберт:
— Можно тебя на пару слов? Где бы нам приткнуться?
А приткнуться в нашем цеху и впрямь негде — ни раздевалки, ни душа, ни единого укромного закутка… Уселись мы с ним на слесарном верстаке, благо слесарь в это время шлифовальный станок ремонтировал, и автор услышал следующее:
— Я хочу вот что сказать… Все равно это станет известно… да и наплевать… В общем: я «петух»…
Автор растерялся, не зная, как реагировать на такое признание, а Альберт усмехнулся — то ли грустно, то ли иронично — и продолжает:
— Ужас какой, правда?.. Впрочем, я и не думал, что ты обрадуешься этому известию, но и бледнеть-то так к чему? Не ты ведь, а я… Хоть и поневоле. Или тебе до лампочки? — Взгляд его был внимателен и строг. — Что по склонности, что поневоле?
— Нет, почему же… — смущенно бормотнул автор, усиленно соображая, как ему теперь быть с таким сокамерником.
А он, так и не дождавшись вразумительного ответа, продолжает:
— Как я понял, в вашей зоне особенно-то с этим не носятся… Да и полно их у вас, вижу… В вашей камере я бы передохнул малость. Долго-то я здесь все равно не засижусь… Можете, конечно, выгнать меня. Это ваше право, и я не обижусь… Но когда-нибудь вам будет стыдно. Все, — он соскочил с верстака. Пока все.
— Подожди-ка! Мне же надо с сокамерниками поговорить. А как сказать?
— Так и говори…
— Но ведь…
— Плевать: я не скрываю!
Посовещавшись, мы решили пока оставить его в камере, а там видно будет. Вместе с тем мы пришли к заключению, что доверять Альберту нельзя.
В логике наших рассуждений внешне все было правильно: общеизвестно, что почти всякий убежавший из уголовной зоны — сукин сын, а уж «петух» и того паче. Так-то оно так, но эти печально-строгие глаза, эта горькая усмешка, вообще весь его облик, все манеры?.. В жизнь бы не подумал, что уголовник! Что-то тут не то, глубокомысленно решил автор. А почему бы, спросил он себя, не попытаться, отложив на время книги в сторону, попристальнее присмотреться к этому Альберту?
Поставив перед собой задачу понять Альберта, автор всячески уговаривал себя относиться к нему непредвзято и, однако, не мог не отдавать себе отчета в том, что всякий раз, едва подумав об Альберте, он как-то внутренне съеживается, готовый вздрогнуть. Не так ли и тот, кто не жалует приязнью даже собак, этих испытанных друзей человека, с тайным содроганием и опасливым отвращением смотрит на какую-нибудь там змею, и должно пройти немало времени, прежде чем он научится понимать ее, признает и за ней право на жизнь, перешагнет наконец через питающееся мифами и предрассудками отвращение и даже — не исключено — проникнется к ней симпатией. Вскоре автор узнал Альберта поближе и уже не только не думал, что Альберт такая уж змея, но порой начинал подозревать, что, может, он, совсем даже напротив, не змея вовсе, однако он так и не сумел преодолеть в себе некоей антипатии, опасливой настороженности, ожидания какого-нибудь подвоха…
Но однажды из книги Альберта выскользнула пожелтевшая фотография, автор поднял ее и увидел кучку ребятни под большой, судя по мощному стволу, липой.
— Ты где? — спросил он.
— Вот, — ткнул тот пальцем.
Похоже, именно после того как автор увидел на этой карточке Альберта-малолетку, он с удивлением и недовольством собой обнаружил, что ему опять с изрядным трудом дается роль бесстрастного исследователя — на этот раз по иной причине: змея оказалась довольно симпатичным существом. И стоило автору признаться в этом себе, как словно некая пелена спала с его глаз…
Единственным источником сведений об Альберте был сам Альберт (за исключением последнего известия, привезенного Февралем), и потому перед автором с самого начала встала проблема оценки достоверности получаемой им информации (крайне скудной, кстати сказать). Только в самые последние дни общения с Альбертом автор воспринимал каждое слово на веру, а до этого он конспективно заносил в особую тетрадь все услышанное от Альберта об Альберте и на полях напротив каждого более или менее значительного факта выставлял оценку достоверности по следующей системе: 0 — заведомая ложь, 1 — очень малая степень достоверности, 2 — не исключено, но маловероятно, 3 — ни то ни се, серединка на половинку; 4 — заслуживает доверия с весьма незначительными поправками, 5 — совершенно достоверно (конечно, в пределах человеческих возможностей). Позже автор, просматривая эти оценки, признал, что вполне мог обойтись и четырехбальной системой — без 0 и 1.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Даже в аду ГУЛАГа можно выжить. И даже оттуда можно бежать. Но никто не спасёт, если ад внутри тебя. Опубликовано: журнал «Полдень, XXI век», октябрь 2008.
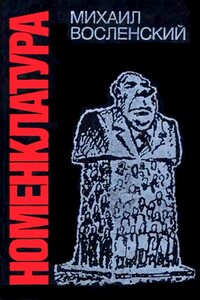
Книга принадлежит к числу тех крайне редких книг, которые, появившись, сразу же входят в сокровищницу политической мысли. Она нужна именно сегодня, благодаря своей актуальности и своим исключительным достоинствам. Её автор сам был номенклатурщиком, позже, после побега на Запад, описал, что у нас творилось в ЦК и в других органах власти: кому какие привилегии полагались, кто на чём ездил, как назначали и как снимали с должности. Прежде всего, книга ясно и логично построена. Шаг за шагом она ведет читателя по разным частям советской системы, не теряя из виду систему в целом.

От редакции. В ознаменование 60-летия Манифеста Комитета Освобождения Народов России мы публикуем избранные фрагменты доклада, сделанного на собрании Франкфуртской группы НТС в 1985 г. (полный текст был опубликован в "Посеве" №№ 4,5 за 1985 г.). Автор — выпускник биологического факультета МГУ, аспирант АН СССР. В августе 1941 г., будучи старшим лейтенантом Красной армии, попал в немецкий плен. Член НТС с 1942 г., председатель Союза в 1972–1984 гг. Один из основных авторов "Пражского Манифеста", подписавший его псевдонимом "А.
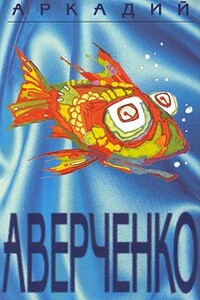
В пятый том сочинений А. Аверченко включены рассказы из сборников «Караси и щуки» (1917), «Оккультные науки» (1917), «Чудеса в решете» (1918), «Нечистая сила» (1920), «Дети» (1922), «Кипящий котел» (1922). В том также вошла повесть «Подходцев и двое других» (1917) и самая знаменитая книга эмигрантского периода творчества Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1921).http://ruslit.traumlibrary.net.

Рассказы Виктора Робсмана — выполнение миссии, ответственной и суровой: не рассказывать, а показать всю жестокость, бездушность и бесчеловечность советской жизни. Пишет он не для развлечения читателя. Он выполняет высокий завет — передать, что глаза видели, а видели они много.

…я счел своим долгом рассказать, каково в действительности положение «спеца», каковы те камни преткновения, кои делают плодотворную работу «спеца» при «советских условиях» фактически невозможною, кои убивают энергию и порыв к работе даже у самых лояльных специалистов, готовых служить России во что бы то ни стало, готовых искренно примириться с существующим строем, готовых закрывать глаза на ту атмосферу невежества и тупоумия, угроз и издевательства, подозрительности и слежки, самодурства и халатности, которая их окружает и с которою им приходится ежедневно и безнадежно бороться.Живой отклик, который моя книга нашла в германской, английской и в зарубежной русской прессе, побуждает меня издать эту книгу и на русском языке, хотя для русского читателя, вероятно, многое в ней и окажется известным.Я в этой книге не намерен ни преподносить научного труда, ни делать какие-либо разоблачения или сообщать сенсационные сведения.

В рассказах Василия Шукшина оживает целая галерея образов русского характера. Автор захватывает читателя знанием психологии русского человека, пониманием его чувств, от ничтожных до высоких; уникальным умением создавать образ несколькими штрихами, репликами, действиями.В книге представлена и публицистика писателя — значимая часть его творчества. О законах движения в кинематографе, о проблемах города и деревни, об авторском стиле в кино и литературе и многом другом В.Шукшин рассказывает метко, точно, образно, актуально.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.
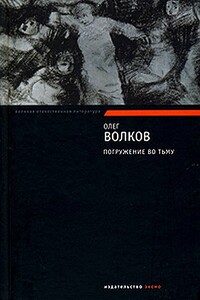
Олег Васильевич Волков — русский писатель, потомок старинного дворянского рода, проведший почти три десятилетия в сталинских лагерях по сфабрикованным обвинениям. В своей книге воспоминаний «Погружение во тьму» он рассказал о невыносимых условиях, в которых приходилось выживать, о судьбах людей, сгинувших в ГУЛАГе.Книга «Погружение во тьму» была удостоена Государственной премии Российской Федерации, Пушкинской премии Фонда Альфреда Тепфера и других наград.
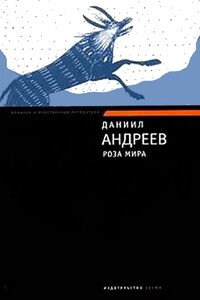
Даниил Андреев (1906–1959), русский поэт и мистик, десять лет провел в тюремном заключении, к которому был приговорен в 1947 году за роман, впоследствии бесследно сгинувший на Лубянке. Свои главные труды Андреев писал во Владимирской тюрьме: из мистических прозрений и поэтической свободы родился философский трактат «Роза Мира» — вдохновенное видение мирового единства, казалось бы, совершенно невозможное посреди ужаса сталинского смертельного конвейера.