Мордовский марафон - [17]
«Медицинское обслуживание примитивное». Любопытно бы сравнить с нашим. Я уже два месяца не нахожу себе места от желудочных болей, а в медчасти нет даже соды — ем зубной порошок. Ты привезла чудодейственный «ротер», европейскую противоязвенную новинку, — я так ее ждал, так надеялся! — а эта старая рамолическая обезьянка в белом халате: «Они у нас обеспечены всем необходимым». — «Так ведь «ротер» же!» — «Что?» — «Ротер!» — «Ах, «ротер»!.. Так у нас есть «ротер», мы ему даем его!»
«Многие заключенные страдают серьезными болезнями, и ужасные условия существования способствуют различным осложнениям». Прямо в точку.
И все. Заключаю, что со всем прочим у них полный порядок. Ведь всякий пишущий о нашем лагере обязательно упомянет о свиданиях, посылках, книгах, расскажет о том, что, дотронувшись до нашего хлеба, надо тут же мыть руки такой он липкий… А ведь хлеб — главная наша пища! Они обо всем этом молчат следовательно, с этим у них нормально. А как там с соблюдением Конвенции МОТ о запрещении всех форм принудительного и обязательного труда, объявившей такой труд рабством? Ни слова! Их уголовнички не выкалывают на груди такую картинку: бродяга с котомкой на спине, перед ним полосатый пограничный столб с указателем «СССР — Турция», а внизу пояснение: «Иду туда, где нет труда!» Я не за был бы сказать и о полном бесправии заключенных, и о том, что лагерная униформа (особенно полосатая), опознавательные нагрудные таблички, стрижка наголо, передвижение по территории лагеря только строем под бравурные марши и т. п. — весьма существенное унижение человеческого достоинства, а согласно определению Нюрнбергского Международного Трибунала — это преступление.
А информационный голод? В наше-то время! Десятки лет держать человека на голодном информационном пайке — значит, сознательно увечить его…
>(Здесь утрачена часть текста.)
…К тому же Грецию лихорадит. Их крайности — крайности нестабильного режима, их тюрьма — патология, наша — норма. Завтра двери их камер может распахнуть очередной переворот… Кто распахнет наши?
А ты говоришь: «Корфу!»
О «странном народе», Альберте и вообще
Посылаю тебе последнюю свою работу. Еще не вполне унялась дрожь от поездки в Саранск, а вот поди ж ты!.. И не хотел, и зарекался… но история Альберта так взбудоражила меня, что, отметя все дела, все неотложности, я за восемь дней исписал гору бумаги и… настолько ошалел от работы, что никак не пойму: что же получилось? Надо бы дать ей, как водится, полежать месячишко, самому отдышаться, а потом снова за нее взяться, да боюсь, как бы она совсем не пропала… Попытайся ее сохранить — позже я хотел бы к ней еще вернуться (когда «позже»? Гм, вопросец!). А нет, так хотя бы законспектируй, опустив все, что может быть сочтено криминальным. В крайнем случае уничтожь. Мне бы хоть часок в день настоящей тишины и безопасности — чтобы не коситься на дверь, дрожа, что она вот-вот распахнется. Поверишь ли, что, когда писал «До свидания, Альберт!» (в ответ на его «Прощай!»), расплакался, как последняя баба… И почувствовал, что больше не могу прятаться за спиной ироничного, холодноватого «автора», что надо говорить от первого, своего лица. Извини, милая, письмо тебе некуда втиснуть — надеюсь, позже подвернется случай.
Пока. Целую.
Страшная штука тюрьма… Нет ей оправдания.
Б. Вильде
Кто же не читал Достоевского? Всякий читал Достоевского. И тем более «Записки из Мертвого дома». Но, как правило, давненько уже. Тут как-то автору пофартило раздобыть эти самые «Записки», и он поразился: да полно, того ли Достоевского читал он когда-то, уж не подмененного ли какого? Каким же надо было быть верхоглядом, чтобы столького не заметить! А может: сколько же надо самому отсидеть, чтобы столькое лишь теперь заметить!.. Наверное, чтобы вполне постичь «Преступление и наказание», надо самому быть в какой-то степени Раскольниковым (в большей, чем все мы им являемся), и только тогда… Впрочем, кроваво-крестные судороги — слишком, как ни верти, дорогая цена за постижение романных глубин, равным образом и многолетнее заживо гниенье в «Мертвом доме» не облегчить кичливым сознанием, что зато теперь все детали былого каторжного быта ты видишь словно наяву и от затхлого острожного духа перехватывает горло. Как бы ты ни обмирал перед величием литературных гениев, вряд ли стоит, домогаясь сопричастности их опыту, канючить у судьбы корч и Голгоф, как, к примеру сказать, вряд ли стоит желать себе бесповоротной смерти ради того, чтобы, оказавшись в аду, убедиться в нечеловеческой прозорливости Данте… Но коль скоро ты там все же окажешься, то, румянясь на раскаленной сковороде или стеклянно леденея в сатанинском холодильнике, все будешь сопоставлять ад нынешний с тем, давним, дантовским — если только тебе будет до того, если твои мозги не расплавятся окончательно или не замерзнут.
Всякий арестант вмиг встрепенется… Впрочем, не всякий. Вот рассказывают, Мандельштама, цветаевского «Божественного мальчика», в последний раз видели в каком-то пересыльном лагере под Владивостоком. Оборванный, скрюченный доходяга с дряхлым провалившимся ртом и тусклыми застывшими глазами безумца, он рылся в помойках и спал возле них — из барака его выгоняли, чтобы не воровал хлеб… Как нет деревни и без своего юродивого — в соплях под лиловым носом, с гусино-красными распухшими ногами на рождественском снегу, — так нет зоны, даже и самой крохотной, на задворках которой не ютились бы закутанные в тряпье, смердящие призраки с воспаленными безумием глазами. Такой уже не встрепенется.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая книга Антона Фридлянда — едкая сатирическая антиутопия, действие которой происходит в современном СССР, последнем оплоте СВЯТОСТИ И ПРАВОЙ ВЕРЫ.

Во 2-ой части романа Непокорные его главные герои Маша и Сергей Кравцовы возвращаются в СССР и возобновляют борьбу с советским режимом. Действие происходит в последние годы жизни Сталина. Перейдя границу в Узбекистане, они прибывают в Москву и вливаются в сплоченную группу заговорщиков. Их цель — секретные документы, хранящиеся в сейфе Министерства Вооружения. Как в жизни часто случается, не все идет по плану; группа вынуждена скрыться от погони в мрачном промозглом лабиринте канализационных стоков Москвы, пронизывающих город из конца в конец.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
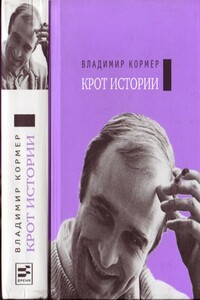
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960—1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание...») и общества в целом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В рассказах Василия Шукшина оживает целая галерея образов русского характера. Автор захватывает читателя знанием психологии русского человека, пониманием его чувств, от ничтожных до высоких; уникальным умением создавать образ несколькими штрихами, репликами, действиями.В книге представлена и публицистика писателя — значимая часть его творчества. О законах движения в кинематографе, о проблемах города и деревни, об авторском стиле в кино и литературе и многом другом В.Шукшин рассказывает метко, точно, образно, актуально.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.
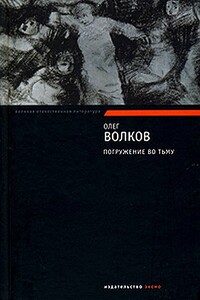
Олег Васильевич Волков — русский писатель, потомок старинного дворянского рода, проведший почти три десятилетия в сталинских лагерях по сфабрикованным обвинениям. В своей книге воспоминаний «Погружение во тьму» он рассказал о невыносимых условиях, в которых приходилось выживать, о судьбах людей, сгинувших в ГУЛАГе.Книга «Погружение во тьму» была удостоена Государственной премии Российской Федерации, Пушкинской премии Фонда Альфреда Тепфера и других наград.
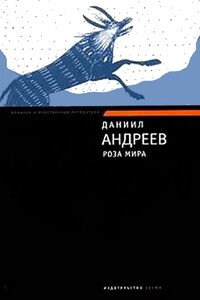
Даниил Андреев (1906–1959), русский поэт и мистик, десять лет провел в тюремном заключении, к которому был приговорен в 1947 году за роман, впоследствии бесследно сгинувший на Лубянке. Свои главные труды Андреев писал во Владимирской тюрьме: из мистических прозрений и поэтической свободы родился философский трактат «Роза Мира» — вдохновенное видение мирового единства, казалось бы, совершенно невозможное посреди ужаса сталинского смертельного конвейера.