Мордовский марафон - [11]
Я полз все вниз, вниз и вниз, с непривычки обдирая в кровь колени и локти, но вскоре глаза привыкли к темноте, а руки и ноги приобрели необходимое проворство и ловкость.
Наконец я наткнулся на мышиную деревню и, соорудив себе шалаш на окраине ее, поселился там. Мыши сначала дичились меня, но потом, убедившись в моем миролюбии и скромности, приняли меня в свой круг.
Наука вольной жизни нелегко давалась мне да и языковой барьер не вдруг удалось преодолеть.
Поскольку настоящей мышиной сноровки я так и не достиг (с возрастом адаптационный механизм утрачивает гибкость), я подрабатывал лекциями о людском коварстве и учил мышей избегать ловушек с отравленной пищей. Мышиная жизнь, скажу я, непроста. Есть в ней свои трагедии, свои беды, много пота и всяких забот, но всякий трудовой день завершается праздником. Что за бесшабашная беготня, возня и пронзительный писк поднимаются! Какие стремительные хороводы, какой дух веселья и доброжелательности царит среди мышиного народа! А главное, тут решительно не знают, что такое тюрьма, и, хотя ни одно вече не обходится без жарких схваток, никому и в голову не приходит заковывать в кандалы тех, кто думает наособицу.
Я, конечно, женился на прелестнейшей мышке (второй дочери деревенского учителя музыки), и теперь в нашем гнезде попискивает целый выводок мышат с розовыми мордашками.
Одно меня смущает: больно уж у моей женушки ноги волосатые, а мне никогда не нравились женщины с волосатыми ногами. Надо будет где-нибудь раздобыть безопаску и научить ее брить ноги. Но только чтобы каждый день, а то от щетины щекотно.
Когда я в очередной раз мучаюсь над настройкой себя на что-то внелагерное, я неизбежно вспоминаю Валька Соколова (где-то он сейчас горбатит, бедолага?), которого когда-то по неопытности сердечной упрекал в узости тематики: что у тебя, мол, все лагерь да лагерь!.. А что у него могло еще быть! Он к тому времени уже 18 лет отсидел. Значит, никуда от него, проклятого, не деться, пока эта тема не будет исчерпана — в жизни и в слове. Вместе с тем я не хочу на ней паразитировать, сказать о себе: «я заключенный — тем и интересен» обидно.
Тут у меня было сложилось несколько теплых страниц о Вальке, быть может, эмбрион повестушки, но беда в том, что нет у меня его стихов, а он-таки поэт по преимуществу, и писать о нем, не имея под рукой его стихов, никак нельзя. Правда, несколько штук я раскопал (кое у кого они тут хранились более десяти лет), но это относительно ранние и далеко не лучшие его вещи. Они у меня в двух экземплярах, один я приложу к этому письму: если мой заберут, то, может, твой сохранится. Это стихи года 1958–1960, так что, если они и попадут в руки тех, для кого они не писаны, Вальку это уже не страшно — дело-то ведь давнее.
Легко заметить, что тут много безвкусицы, от которой он до конца так и не избавился… да и как, где он мог пройти хорошую вкусовую школу? Нет-нет да и мелькнет штамп, есть и «красивости» — отголосок уголовной эстетики… Он знал об узости своей базы, но уже не пытался расширить ее, маскируя свою ограниченность «принципиальными» соображениями в духе интуитивизма, философии жизни Бергсона, Фильтена, Зиммеля… Он ссылался на них, имея о них, конечно, самое смутное представление (хотя и ухватив некую суть) и не желая признать, что они-то могли позволить себе роскошь пренебрежения классическим наследием и логикой рационализма именно потому, что вполне владели ими.
Но натуры он богатейшей, у него не было лишь того, что недодало или отняло у него общество.
Мы с ним маялись вместе пять лет — с 1962 по 1967 год. Первый раз он отсидел девять лет, а во второй — десять. За всяческую болтовню, но в основном за стихи. Как пишутся стихи? Очень просто: сел — написал — сел… Правда, первые девять лет ему позже простили — реабилитировали.
В последние лагерные годы он несколько подался: обрюзг, унял, поскучнел… А вообще он беспутевщина, раблезианец, веселый враль (ведь поэт же!), обжора и скареда… Но ему ни одно лыко не идет в строку, ибо ярко самобытен чуть ли не в каждом жесте и слове. Мне хотелось бы рассказать о нем во всей его противоречивой сложности, как о всамделишном живом человеке, на чьем лице хаотическая пляска бликов света и тени, так смущающая всяческих пуристов, которых никогда не били резиновыми шлангами, не доводили голодом до пеллагры, не щупали задницу («Ого, еще есть мясцо… — на лесоповал!»). Несмотря на всю свою мясистость, дух его надрывно трагичен. Однако его образ не вписывается в тот болезненно-артистический ряд, в котором Новалис держит за руку Ницше, а тот — Адриана Леверкюна. Скорее уж, вспоминаешь более земных, более полнокровных и более бездомных: гуляку, вора и висельника Вийона, Бодлера, Рембо, Хлебникова…
В 1969 году, получив письмо: «Сдыхаю с тоски, запился до свинства, словом перемолвиться не с кем…», я бросил все и, прихватив с собой Юрку, с единственной (заемной) сотней в кармане, покатил к нему в мрачный Новошахтинск — спасать от запоя и одиночества. Он, поверишь, разрыдался, увидев меня… Ради обратного билета нам с Юркой пришлось разгружать уголек, однако мы выкроили пятерку на памятный снимок (пришлю тебе ближайшим письмом). Тогда же я записал его на магнитофон (тоже заемный), но в декабре 1969 года, узнав, что пленкой заинтересовались органы, уничтожил ее (ибо известность — это хорошо, но третий срок — плохо).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая книга Антона Фридлянда — едкая сатирическая антиутопия, действие которой происходит в современном СССР, последнем оплоте СВЯТОСТИ И ПРАВОЙ ВЕРЫ.

Во 2-ой части романа Непокорные его главные герои Маша и Сергей Кравцовы возвращаются в СССР и возобновляют борьбу с советским режимом. Действие происходит в последние годы жизни Сталина. Перейдя границу в Узбекистане, они прибывают в Москву и вливаются в сплоченную группу заговорщиков. Их цель — секретные документы, хранящиеся в сейфе Министерства Вооружения. Как в жизни часто случается, не все идет по плану; группа вынуждена скрыться от погони в мрачном промозглом лабиринте канализационных стоков Москвы, пронизывающих город из конца в конец.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
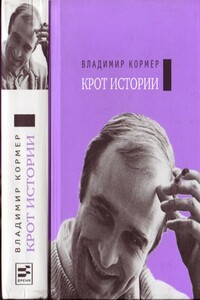
В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960—1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание...») и общества в целом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В рассказах Василия Шукшина оживает целая галерея образов русского характера. Автор захватывает читателя знанием психологии русского человека, пониманием его чувств, от ничтожных до высоких; уникальным умением создавать образ несколькими штрихами, репликами, действиями.В книге представлена и публицистика писателя — значимая часть его творчества. О законах движения в кинематографе, о проблемах города и деревни, об авторском стиле в кино и литературе и многом другом В.Шукшин рассказывает метко, точно, образно, актуально.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.
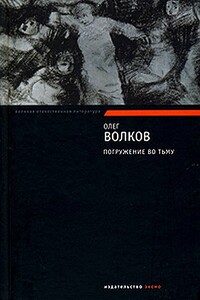
Олег Васильевич Волков — русский писатель, потомок старинного дворянского рода, проведший почти три десятилетия в сталинских лагерях по сфабрикованным обвинениям. В своей книге воспоминаний «Погружение во тьму» он рассказал о невыносимых условиях, в которых приходилось выживать, о судьбах людей, сгинувших в ГУЛАГе.Книга «Погружение во тьму» была удостоена Государственной премии Российской Федерации, Пушкинской премии Фонда Альфреда Тепфера и других наград.
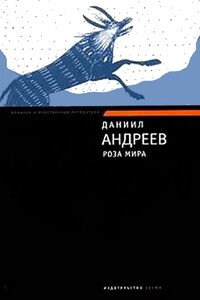
Даниил Андреев (1906–1959), русский поэт и мистик, десять лет провел в тюремном заключении, к которому был приговорен в 1947 году за роман, впоследствии бесследно сгинувший на Лубянке. Свои главные труды Андреев писал во Владимирской тюрьме: из мистических прозрений и поэтической свободы родился философский трактат «Роза Мира» — вдохновенное видение мирового единства, казалось бы, совершенно невозможное посреди ужаса сталинского смертельного конвейера.