Момент Макиавелли - [262]
В поздней греческой и латинской литературе, которой были одержимы европейцы, — особенно у Саллюстия, автора, которому в «Моменте Макиавелли» можно было бы уделить больше внимания, — республика изображалась как вместилище libertas, дававшей выход энергии, virtus знати и народа, которые подавлялись властью царей. Virtus воплощалась в imperium, под которым подразумевалась либо власть магистрата или военачальника, либо империя самой республики; как считалось, libertas предполагает и войну, и покорение других народов. Империя развратила людей, но даже если бы она этого не сделала, сам ее размах требовал передачи как libertas, так и imperium в руки одного princeps. Можно сказать, что это и был исходный «Момент Макиавелли»: свободная республика поставила перед собой проблемы, которые, возможно, оказалась не способна решить. После утверждения власти государя или императора мысль могла развиваться в одном из двух направлений — или в обоих. Можно было утверждать, что libertas и virtus утрачены и люди теперь живут в подчинении системе, где они лишены возможности определять себя; или же можно было утверждать, что они оказались в пространстве всеобщего мира, ойкумены или империи, где могли свободно выбирать между бесчисленными типами деятельности, гарантированными им высшим магистратом и законами, в составлении которых им не требовалось участвовать самим. На смену libertas et imperium пришла империя закона, на смену свободе действовать — свобода от несправедливости со стороны других людей.
Политическая мысль, теория или философия — пронизанная правом, как это всегда было в истории — составляет, если упрощать, идеологию либеральной империи; что пришло к нам от республики — другой вопрос. Историография — здесь я имею в виду создание больших исторических нарративов — развивалась в двух различных направлениях: одно описывало превращение республики в империю, другое полагало, что libertas и imperium неразделимы и одновременно взаиморазрушительны. В ходе моего исследования топосов Упадка и Падения и работы над этим послесловием[1355] я пришел к выводу: хотя сам Цицерон являлся мучеником за республику, погибшим вместе с ней, «цицероновский» идеал гражданской жизни, признаки которого Скиннер усмотрел в XIII столетии, вполне совместим с предположением, что гражданские добродетели можно проявлять при власти закона и справедливом государе. Так, Август, Траян или Юстиниан правили свободными людьми в том смысле, что существовала власть закона, к которому те могли обращаться за защитой. Однако флорентийцы два века спустя, как полагал Ханс Барон, имели основание утверждать, что при цезарях libertas исчезла, из‐за чего правители превратились в тиранов и чудовищ, а граждане уже не обладали virtus, необходимым для защиты империи, которую он помог им завоевать, от варваров[1356].
Эти два нарратива — первый из которых гораздо лучше, чем второй, сочетается с юриспруденцией и философией, сформировавших, как мы полагаем, «историю политической мысли» в Европе раннего Нового времени, — строятся на двух понятиях свободы, приблизительно напоминающих «негативный» и «позитивный» полюсы, описанные Берлином: свободу, которую защищают, и свободу, которую утверждают. Конечно, можно утверждать свободу защищать самого себя, и, возможно, в этом ключ к истории демократического либерализма. Отношения между двумя противоположными концепциями в истории политического и теоретического дискурса чрезвычайно сложны[1357], но, чтобы понять эту историю, надо осознать кардинальные различия между ними. Через десять лет после «Момента Макиавелли» я издал отдельной книгой статью, в которой утверждал, что понятия «права» и «добродетели» несводимы к своему общепринятому значению[1358]. В ответ Ричард Так недавно предостерег, что «неубедительно» и «ошибочно» «резко разграничивать», как, по его мнению, сделал я, «гуманистов и юристов»[1359]. Действительно, было бы высшим заблуждением пытаться провести резкую границу между такими обширными и неопределенными группами, которые пересекались между собой и постоянно заимствовали нечто друг у друга, но я и не пытался этого сделать. Я старался провести резкую границу лишь между двумя концептуальными предпосылками: между правом, на которое человек может претендовать (возможно, потому что такова его природа), и добродетелью, которую он должен найти в себе и выразить в действиях, осуществляемых совместно с равными себе людьми. Первое из них, разумеется, принадлежит языку юриспруденции, а также философии морали, философии права и иногда философии истории, сформировавшимся благодаря юриспруденции, тогда как второе чаще встречается в повествованиях о гражданской жизни в Античности, которые гуманисты изучали и на основании которых создали повествования о расцвете и упадке систем гражданской жизни в Греции и Риме. Эту границу нельзя назвать «резкой», так как эти два подхода постоянно пересекались и взаимодействовали между собой, но о ней ни в коем случае не следует забывать, если мы хотим понять возникавшие в ходе этого взаимодействия оппозиции, значительную часть которых составляют противоречия между «древним» и «современным», «позитивным» и «негативным» пониманиями свободы.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.
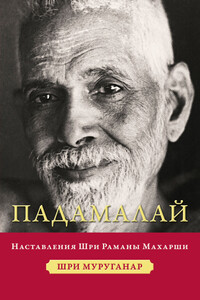
Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.