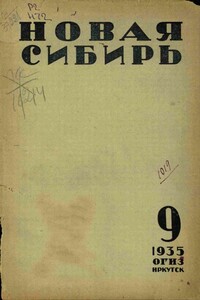Тапер был на своем месте. Он дремал, облокотись на крышку закрытого рояля. Спросонья поднял он на нас свои небольшие выцветшие глаза и снова задремал. Мы заняли столик возле него. Нехотя подошел к нам лакей — с большей даже неохотой, чем раньше. И потом долго-долго копался где-то пока подал нам заказанное.
Самуил обернулся к старику-таперу и окликнул его. Тот повернул свою голову в нашу сторону и улыбнулся приветливо как знакомым.
— Сыграйте нам что-нибудь, пожалуйста! — попросил его Самуил.
Старик тряхнул головой и привычным движением открыл крышку рояля и удобнее придвинул свой табурет,
— Чего прикажете? — суховато спросил он: — Что сыграть? — Мы переглянулись. Замялись. Хотелось хорошей музыки, но откуда она возьмется здесь, в обстановке дешевого ресторана, под пальцами этого старика?
— Знаете что? — решил я: — Вы нам сыграйте то, что сами больше всего любите! Хорошо!
Старик закивал головой. Лицо его ожило и заулыбалось приветливо. На нем заиграли живые огни, живые тени.
— Молитву Девы[2]?! — полувопросительно, полуутвердительно сказал он и взял первый аккорд.
Понеслись звуки этой игранной-переигранной мелодии, которую так любят играть институтки и старые девы, которую улица и шарманка обездушили и лишили всей ее прелести. Но в этих звуках давно знакомой и переставшей уже трогать нас мелодии здесь, под пальцами старика-тапера, что-то заискрилось новое. Какая-то неуловимая нотка прорезала низкие густые аккорды. Нотка, в которой почудилась нам и тоска — наша собственная, вот-вот ожившая тоска, и чьи-то слезы — не те, давно слышанные в этой мелодии слезы — а новые, идущие сверху, с небес. Кто-то большой и сильный плакал о ком-то, кому и тяжко, и страшно, и выхода нет,
Так нам показалось. Позже и Самуил признавался мне, что он именно так переживал эти несколько мгновений.
Но вот в музыку ворвались какие-то чуждые звуки.
Какой-то шум неожиданно и грубо нарушил гармонию.
В зале задвигали стульями, зазвенели каким-то серебряным звоном, громко заговорили, засмеялись.
Мы оглянулись. По широкой лестнице, ведущей из верхнего этажа, где помещалась гостиница, спускалась большая группа офицеров.
Впереди шел высокий генерал с пушистыми бакенбардами-усами, тщательно расчесанными в обе стороны. На шее у него тускло поблескивал темный с эмалью крест ордена.
Самуил тронул меня за руку. Я вздрогнул. Я вспомнил, я почувствовал всё, всё...
Это был он. Тот, кто властным и жестоким пришел сюда карать, наводить порядок. Впереди кого бежала стоустная молва, повествовавшая об ужасах, о крови...
Офицеры шумно расселись вокруг столиков, быстро заполнив весь сравнительно большой зал. Сразу загудело многолюдие вокруг, раскатился хохот. Оживленные, смеющиеся все сразу они и не заметили нас.
Звуки, ворвавшиеся с пришедшими в зал, оттолкнули куда-то музыку. Как-то потускнела она, точно надломил ее кто-то. И мы, до того времени так внимательно слушавшие старую песню, вдруг потеряли к ней всякий интерес.
Недалеко от нас за столик уселись двое — молодой высокий поручик и пожилой, какой-то усталый, судя по погонам, военный врач. Поручик что-то долго объяснял почтительно и оживленно перегнувшемуся пред ним лакею. Доктор равнодушно позевывал и кидал рассеянные взгляды по сторонам. Мельком взглянул он и в нашу сторону. Прищурил глаза и, вдруг оживившись, сделал какое-то движение губами. Потом перевел свой взгляд на старика-тапера.
Офицер, отпустив лакея, тоже взглянул на нас. Взгляды наши встретились. Он встрепенулся, поднял голову и раздул ноздри. Потом усмехнулся, поиграл пальцами по белой скатерти и вдруг, быстро поднявшись, пошел к музыканту. И, заглушая звуки музыки, громко, отчетливо приказал ему.
— Брось эту ерунду!... Играй матчиш!... матчиш!... — Старик, вздрогнув, оторвал на мгновение пальцы от клавиш и что-то ответил невнятно офицеру, продолжая играть теперь уже бесцветную, потерявшую свою душу, свой огонь мелодию.
— Я тебе говорю — брось! — гневно повторил поручик. Звуки разом оборвались. Замерли.
Врач лениво встал, подошел к поручику и, взяв его под руку, повел к столу.
— Плюньте... Стоить ли волноваться! — успокоительно сказал он ему и кинул быстрый и тревожный взгляд в нашу сторону.
Тогда неожиданно Самуил, у которого лицо побелело и руки начинали вздрагивать, звенящим голосом отчеканил:
— Молитву Девы... эту ерунду заказали мы и мы желаем дослушать ее до конца...
Поручик побагровел, вырвал свою руку из руки державшего его врача, сверкнул злым взглядом и тоже звенящим, полным угрозы голосом вызывающе бросил:
— Что-о?!.
И так на мгновение — долгое и жуткое мгновение мы все замерли, впившись взглядами один в другого...
Но запрыгали, забегали внезапно буйно веселые звуки, закружился рождающий темное волнение мотив, наполнив удалью своей и своей властью каждый уголок зала, заволновался вокруг нас, дразня и успокаивая нашу злобу, — и порвал долгое мгновение.
Поручик круто повернулся, по его губам проползла усмешка и он сел на свое место.
Быстро вплотную к нам подошел врач. Бледный, схватил он мою руку и свистящим шёпотом, в котором слышались и какая-то странная злоба, и неожиданная забота, забота о нас, заговорил: