Мольер - [80]
<…> сверх того прием превосходного лекарства, послабляющего и укрепляющего, составленного из кассии, александрийского листа и прочего, для прочистки и изгнания желчи у вашей милости; <…> сверх того в означенный день болеутоляющее и вяжущее питье для успокоения вашей милости; <…> сверх того ветрогонный клистир, чтобы удалить ветры; <…> вечером повторение вышеупомянутого клистира; <…> отличное мочегонное, чтобы выгнать дурные соки вашей милости; <…> порция очищенной и подслащенной сыворотки, чтобы успокоить и освежить кровь; <…> сверх того предохранительное и сердце укрепляющее питье, составленное из двенадцати зернышек безоара, лимонного и гранатового сиропа и прочего>[188].
Есть чем доконать человека!
Смеяться над врачами казалось легко, пока ты сам здоров. Возможность показать их бесполезность, важность, которую они на себя напускают, могла принести ему облегчение, словно он изгонял смехом страх перед болезнью. Да, врачи из его комедий были легко узнаваемы, однако актеры всегда прибавляли что-то от себя к этим страшным карикатурным портретам.
Симптомы налицо, и физиологию трудно отделить от психологии. Чтобы не быть больным, надо сделаться врачом. Точь-в-точь как не надо жениться, если не хочешь носить рога. «Рога считали вы несчастием таким, что вам верней всего остаться холостым»>[189]. Логика та же.
Вызван ли кашель Мольера в большей степени состоянием духа или сбоем в циркуляции жидкостей? Он задает этот вопрос партеру, утрируя, говоря об утробе.
В самом деле, вопросы пищеварения волнуют всех и часто выводят из равновесия. Утроба — вечная тема, однако не такая серьезная и более универсальная, чем сексе повседневная жизнь каждого, от последнего бедняка до богача, от крестьянского мальчишки до короля, размерена естественными потребностями. Интересуясь, «как ваши дела?», спрашивают именно о тех делах, которые справляют на горшке.
В фарсах комедианты без колебаний развивали эту тему. Со времен «Фарса мэтра Пьера Потлена», безымянного шедевра средневекового комического театра (1465), где говорилось о какашках, твердых, как камни, и до нынешних успехов Поклена об этом говорили открыто и с наслаждением. Мольер не положил этому конец. Он использовал эту комедийную золотую жилу, но элегантно: вместо того чтобы смеяться над запорами, он потешается над устроителями поносов — лекарями.
Мы не страдали бы от колопатии, если бы медицина не выдумала это слово, если бы она не возвестила о болезнях: разве можно жаловаться на никому не известное? Искусственно очищать кишечник — значит идти против природы. Стараются не столько излечить, сколько наблюдать эффект воздействия на организм: пациент больше тревожится по поводу лечения (подходит ли мне это?), чем по поводу исцеления:
— Как подействовало мое сегодняшнее промывательное?
— Ваше промывательное?
— Да. Много ли вышло желчи?
— Ну, уж меня эти дела не касаются! Пусть господин Флеран сует в них свои нос — ему от этого прибыль>[190].
От промывательного нельзя было оправиться в три дня, а расстройство приписывали недостатку жидкостей. Надо ли размягчать, увлажнять и освежать или облегчать, промывать и очищать кишечник, изгонять желчь и ветры? Однако человек, не могущий появиться в обществе из-за недержания, неспособен думать ни о чем другом. В театре сортирная тема порождает комедию; в повседневной жизни — трагедию. Невозможность удержать понос на людях и в особенности при дворе, где — теоретически — собираются только закаленные в боях и доблестные люди, — это ужасное и унизительное социальное препятствие. Таков сюжет «Мнимого больного»: мещанин во дворянстве заложник своего поноса, прикован к спальне, к ночному горшку (он дважды уходит со сцены, чтобы опорожнить кишечник), к навязчивой идее о своей утробе.
Господин Леонар де Пурсоньяк из Лиможа хотел являться в обществе. Клистирами и промываниями ему преградили туда путь.
Утроба направляет шаги и задает ритм дыхания. Сведенные судорогой и горящие огнем кишки словно опускаются и растворяются; боль в животе откликается в заднем проходе; дыхание становится прерывистым, ладони влажными; тело борется со своим размягчением, разложением; на висках, на лбу и шее выступает пот: воля покидает тело, и оно скоро сдаст. Нужно бежать, пока оно не убежало само.
Естественная потребность обращается в расстройство, которое становится наваждением: смогу ли я дойти из замка до фонтана с Юпитером, а оттуда до театра, не испытав позывов? Сколько времени я смогу высидеть на спектакле, а то и на мессе, пока кишечник или мочевой пузырь не возьмут верх?
В такой ситуации остается только сидеть дома, жить, подстраиваясь под свое тело и сообразуясь с возможными катастрофами, трезво предвидя малейшую его реакцию. Колопатия выводит из игры тех, кого она тиранит. А на последней стадии — парализует. Эта стадия называется ипохондрией.
Чахоточный неврастеник, Мольер впал в ипохондрию, в нетерпение тела. После его смерти обнаружится, что он задолжал аптекарям 167 ливров. До смерти боясь кровопускания, отказываясь от клистиров, он скупал мази, травы, даже орвьетан, набивал подушку лечебными растениями, чтобы можно было дышать и заснуть, уже не знал, к кому обратиться, видя, что погибает:

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».
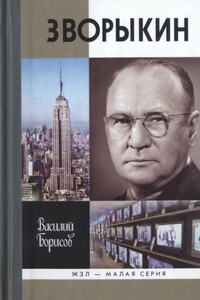
В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.
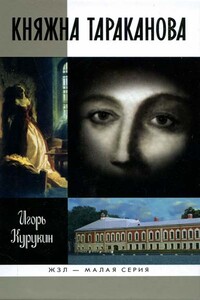
Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.
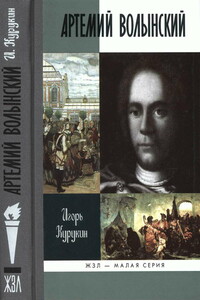
Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.