Многоточие в конце человека - [2]
"В ту ночь" — это "внешний" признак, на самом деле пронизывающий все стихотворение насквозь и из каждой строки зычно напоминающий о себе. Да, Иосиф Бродский был выброшен из России, чтобы никогда не вернуться, чтобы гнать от себя всю жизнь даже и мысль о возвращении. Это — и тема, и проблема, и сюжет, и даже композиция. Это — везде и во всем. Темы как "фрагмента действительности" практически нет, действительность сплющена, подавлена авторским ее восприятием, и только в конце, собрав последние силы, она проявляется в образе буксира, кричащего, как и все той ночью. Если воспринимать сюжет как цепь событий, то именно цепи здесь мы и не находим: ничего не происходит, а только готовится произойти — нечто огромное, великое и единое…
Подходя к системе персонажей, я не могу молчать и о "хронотопе": пространство у Бродского стало вторым, и последним, персонажем "стансов", не менее важным, чем трагическое "я". Кстати, именно так поэт и решает проблему своего изгнаннического одиночества, для него оно — долгожданный выход… Когда все живые уже отреклись, остается последнее — Петербург, Ленинград, как угодно, — и оно оживает. Оно поднимается: колоссальное, даже священное — способное "осенять" и "отпевать", единственное, готовое остаться с изгоем навечно…
Трон коммунизма — табуретка у ног повешенного.
Выбор мертвецов — коммунизм.
Гуляющие в парке — "заблудшие души", чистилище.
Лица стариков — бенгальские огни.
Километры в час — километры в жизнь.
Струны — нити Мойр — судьба звука.
Звезды — точки в непрочитанных строках.
Вырезать горло молочному пакету: молоко — его последний вопль.
Дерево — сплетенье игреков и иксов. Провода — знак равенства, далее — небо…
Повторяю слова, выполняя работу эха.
Грязная посуда — Парфенон, развалины; мыльная пена — словно предисловие к рождению Венеры; моющий блюдца — почти дискобол.
Трамвайные рельсы "порезы", согревшие переулок.
Лунный свет — кровь белокровья…
Снег — будто некто внезапно нажал на "пробел".
Для очищения ночи — седьмое чувство. Ночь незаметна вокруг, но подсознательно ощутима, словно подслушивающее устройство.
Мы начались с воды.
Зевающий репетирует удушье (смерть).
Пальцы — многоточие в конце человека.
Нечто проклевывается из-под скорлупы штукатурки (дома).
В противоположность быку реагирую на красное (светофор) онемением.
Оглядываю себя, будто ищу финальную подпись автора в углу. Только где угол?
Ртуть в термометре тяготеет более к побегу, нежели к предсказанию погоды.
И на лицо отбрасывает тень грядущий череп.
…Со скоростью перехода рукоятки в лезвие (наоборот?).
Красные телефонные будки. Красное — цвет убийства; впрочем, и убийство — форма телефона, срочной связи с собой и с точкой, куда в последний раз посмотрел…
Дожди возвращают мир к наброску…
1) Чревовещание самолета;
2) мимика туч…
Небо наполовину создано из ребра стены.
Мысля, обращаю на себя Его внимание.
Проходя через сеть веток, звук становится колокольным звоном.
"Вызвать огонь на себя" может полено — или взгляд, устремленный на полено. Его преимущество в перевоплощении.
Новорожденная стружка тотчас скручивается в подобие мозга, в мысль: что дальше?!
Свет наполняет сосуд снаружи.
Часы вырабатывают иммунитет от времени…
Все крупное — неустойчиво, ибо уже способно конкурировать с целым. Целое подавляет свои отдельные части.
Ночью слух перестает воспринимать вопросительные фразы ветра. Ибо он сам вопрос.
1) Борьба воздуха со стеклом: только здравый смысл удерживает последнее от тарана;
2) колокола — звон ключей Петра, пришедшего к вратам слишком рано.
Ночь — набросок дня углем.
Смерть — превращение мимики в графику.
Аплодисменты — {в какой-то мере} форма зависти к пианисту (к его рукам).
Окна: игра в крестики-нолики с воздухом.
Скобки — могильщики, несущие слово.
Окно — Око (пропущенная буква).
Лужи — остракизм неба.
Лифты ссорятся, как супруги, — хлопая дверьми.
Движение во все стороны сразу ("на все четыре…") есть комната.
Комната создает эффект согласия с вами.
Человечество — чаша, для которой осколки — нормальное состояние.
…Трагедия человека, при условии, что он поэт, в его судьбе уже состоялась: вторжение поэзии в любую жизнь и есть трагедия человека. Поэт говорит не так, как говорит человек, — и со временем это начинает определенным образом направлять его мысли. В конце концов, поэт находится там, где человека нет. Трагедия человека состоит в недосягаемости этого там. Трагедия же поэта заключается в невозвратимости оттуда. Но при всем видимом равенстве антагонистов истинным горем для биологической единицы является не приобретение качеств поэта, а утрата качеств человека как всякая утрата печальнее всякого приобретения.
Всю эту классификацию трагедий почти неприлично применять к Есенину, потому что в конечном счете мы таким образом выясняем: что именно привело его в "Англетер". Думаю, смутное (на уровне сочетания звуков в строке) ощущение драматизма ситуации — и есть наш предел в этой теме, хотя опасная близость петли к любой из мелодий есенинской жизни и не настораживает ее исследователей. С другой стороны, трагедия, приведшая к смерти, — смертью направляется, и, говоря о трагедиях Есенина, мы имеем в виду прежде всего некий раритет, к судьбе поэта впрямую не относящийся, а потому — могущий быть предметом постороннего изучения.

УДК 821.161.1-1 ББК 84(2 Рос=Рус)6-44 М23 В оформлении обложки использована картина Давида Штейнберга Манович, Лера Первый и другие рассказы. — М., Русский Гулливер; Центр Современной Литературы, 2015. — 148 с. ISBN 978-5-91627-154-6 Проза Леры Манович как хороший утренний кофе. Она погружает в задумчивую бодрость и делает тебя соучастником тончайших переживаний героев, переданных немногими точными словами, я бы даже сказал — точными обиняками. Искусство нынче редкое, в котором чувствуются отголоски когда-то хорошо усвоенного Хэмингуэя, а то и Чехова.
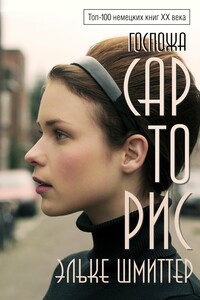
Поздно вечером на безлюдной улице машина насмерть сбивает человека. Водитель скрывается под проливным дождем. Маргарита Сарторис узнает об этом из газет. Это напоминает ей об истории, которая произошла с ней в прошлом и которая круто изменила ее монотонную провинциальную жизнь.
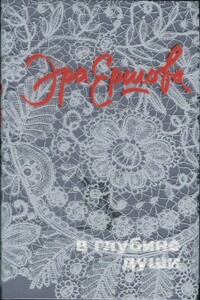
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.

Роман представляет собой исповедь женщины из народа, прожившей нелегкую, полную драматизма жизнь. Петрия, героиня романа, находит в себе силы противостоять злу, она идет к людям с добром и душевной щедростью. Вот почему ее непритязательные рассказы звучат как легенды, сплетаются в прекрасный «венок».

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.