Мизери - [12]
Петербург, окруживший большинство своих жителей узким кольцом нужды и страха, разрешал меньшинству прорваться сквозь цепь флажков, не то красных, не то белых (вырвавшимся не хотелось оглядываться). Петербург, размыкая цепь то там, то сям, считал по головам свою стаю, прикидывая: «А ладно ли эдак? А хватит ли этих, рыскающих, чтоб отразиться во всех зеркалах моих новых магазинов, или еще подбавить, разбавить?..» Петербург разрешал немногим (Игорю разрешал) ходить по своим улицам с высоко поднятой головой, посвистывая, с любопытством рассматривая физиономию разномастной толпы, как во все времена запрудившей Невский.
Выражения лиц у встречных были тем спокойнее и веселее, чем медленнее двигались они. Прогуливающиеся держались середины тротуара и озирали витрины через головы спешащих. Спешащие шли не глядя по сторонам, строго соблюдая принцип правосторонности движения. Стоящие на троллейбусных остановках топили взгляд в туманной дали Невской перспективы. Невский сверкал свежими заплатками отремонтированных гостиниц и ожерельями вывесок — нерусских и русских, но так не по–русски глядящих, что любую разобрать было труднее, нежели английский дубликат, исполненный с несравненно большим вкусом.
Веселее всех глядели на Игоря иностранные туристы: его иногда так и подмывало отвесить какому–нибудь чистенькому подвыпившему немцу дружелюбный поклон — как в старину, — но подбородок немца обычно бывал задран несколько выше, чем Игорев, и они расходились, не раскланявшись.
Петербург благоволил к Игорю. Петербург разрешал.
Проводив семью, Игорь занялся ремонтом машины, старенькой, но еще надежной. Так началась его «пешая» жизнь: летняя, легкая, холостяцкая, беззаботная, какой он давно не имел, а в сущности, не имел никогда, поскольку лишь сейчас почувствовал, что богат. Молодая, красивая эта жизнь стояла спокойно и выжидательно, как продавщица во французском магазине, где купил он духи, не зная для кого, как не знал, что еще и что именно позволено ему в городе, цветущем сиренью и рекламой.
Он глядел на продавщицу и не видел ее или, может быть, видел ее с той мерой ясности, какую давал бы свадебный флер, скрывающий лицо невесты, предназначенной не ему, но его невеста тоже где–то ждет, предназначенная, ей лет двадцать–двадцать пять… нет — к тридцати, у нее голубые яркие глаза, высокий рост, маленькая грудь, круглая…
Стояли белые ночи. Летний сезон был самым горячим для филиала американской компании. Переводчики работали без выходных, по двенадцать–четырнадцать часов в сутки. Женщин–переводчиц увольняли по истечении испытательного срока, так как они не справлялись с режимом. Потом их вовсе перестали брать. Отпуск Игорю обещали в сентябре, а пока он гулял по Невскому и Садовой дважды в день, случалось, и ночами, которые так хороши в Петербурге и так располагают к мечтательности, что, право, его потянуло на Достоевского.
Как–то в конце июля Игорь сидел перед телефоном, лениво листая записную книжку. Он почти добрался до «С», когда раздался звонок. Звонила Света. Она просила его помочь с похоронами. Умерла ее мама. Почти год минул со времени их расставания. Голос в трубке был слаб, но отчетлив, а серебро, некогда отрадно звеневшее в нем, глухо шуршало. За весь разговор она ни разу не произнесла его имени. Горе, короткое слово, коренящееся в этом спокойном и нейтральном имени, не терпящем сокращений и уменьшительных суффиксов, казалось, одно, само по себе, скребя и постанывая в трескотне помех, обращалось к Игорю, однофамильцу, шапочно знакомому с ним, не уверенному, что его принимают за того, кем был он последние десять лет своей жизни, последний год этой жизни, проведенный в разлуке со Светой.
В этот год он видел ее только раз, из окна машины. Понурившись, опустив до глаз капюшон серого плаща, она брела по кромке тротуара, не обращая внимания на фонтаны весенней грязи, бьющие из–под колес. Игорь притормозил, но сзади ему грозно просигналили, и он проехал мимо, сказав себе, что женщина, бредущая по кромке тротуара в плаще, забрызганном грязью, не может быть Светой. Не ее район. Он не знал тогда, что Света перешла работать в школу. Отношения их были прерваны ею — жестоко, поспешно — на той опасной стадии, которая, продлись она, поставила бы Игоря перед выбором…
И опять вставал перед ним этот выбор. Голос в трубке сорвался беспомощной трелью гудков. Он подождал, грея трубку рукой. Набрал номер — семизначный шифр, отпирающий врата будущего, где каждая цифра имела свой цвет (он как–то попробовал рисовать; Светины глаза, прозрачно–карие, месяц плыли с листа на лист, светлея и расширяясь, пока она не разорвала, смеясь, варианты тех его старательных признаний)…
Он выбрал. Голос протянул ему короткое «да», назвал по имени, назначил час, когда должны они были увидеться.
Игорь бросился на помощь, как бросаются в объятия. Жалость, настоянная на дрожжах разлуки, кипела и пенилась в нем. Говорливый, расторопный и слишком оживленный рядом со Светой, он провел ее, полумертвую от усталости, по кругам бюрократических церемониалов, умело защищая от произвола власть имущих, присмертных инстанций, заканчивая последней — бригадой потных могильщиков, торопившихся под проливным июльским дождем опустить синий гроб с телом ее матери в грязную лужу, поднимавшуюся со дна ямы, приготовленной загодя.

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
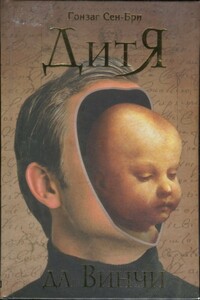
Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.
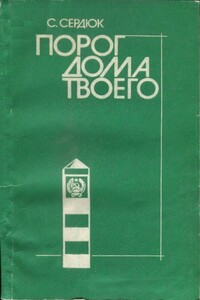
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.