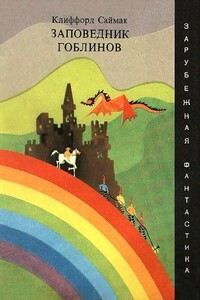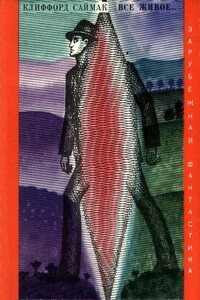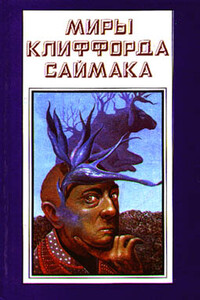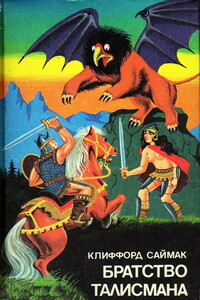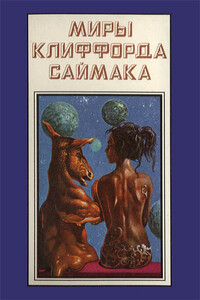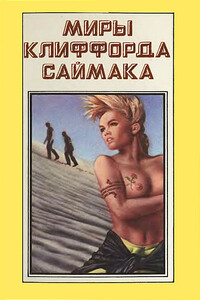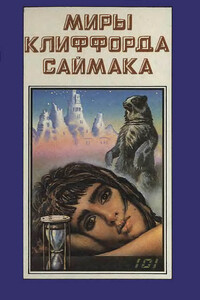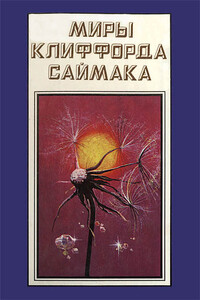— Приходите еще, — сказала Джуди Чарльсон. — Может, как-нибудь в пятницу вечером.
— Спасибо, — ответил Дин. — Пожалуй, я приду.
Большие дети, сказал он себе с некоторой гордостью. Намного добрее и вежливее обычных подростков. Ни нахальства, ни снисходительности, будто они и не дети, и все же есть в них великолепие юности: и мечтательность, и честолюбие, что идут рука об руку с юностью.
Повзрослевшие прежде времени, лишенные цинизма. А это очень важно — отсутствие цинизма.
Конечно, в их человеколюбии нет ничего дурного. Быть может, именно этим одарили их Воспителлы взамен украденного детства.
Если они и впрямь его украли. Потому что, может, они и не крали, а просто взяли и отложили про запас.
А если это так, то Воспителлы одарили ребят новым чувством зрелости и новым ощущением равенства. И взяли у ребят другое — то, что так или иначе пропадало впустую, нечто такое, чему люди, в сущности, не находили применения, но для Воспителл это было самым главным.
Они взяли себе юность и красоту и отложили в своем доме про запас; они сохранили то, что человеческие существа могли хранить лишь в памяти. Они ловили быстротечные мгновения и удерживали их, и вот он, урожай многих лет, дом был доверху набит ими.
Леймонт Стайлс, спросил он, ведя мысленный разговор с этим человеком через долгие годы, через дальние расстояния, ты об этом знал? Какую цель ты преследовал?
Не было ли это вызовом самодовольству чопорного городка, который вынудил его стать сильным? Надеждой, уверенностью, что ни один милвиллец больше уже не скажет ни про кого из ребят, как говорили про Леймонта Стайлса, что из этого мальчика или девочки ничего путного не выйдет.
Это, конечно, важно, но это еще не все.
Донна дотронулась до его локтя и потянула за рукав.
— Пойдемте, мистер Дин, — настойчиво звала она. — Вам нельзя здесь оставаться.
Они все вместе направились к двери, попрощались, и он вышел на улицу, как ему показалось, немного быстрее обычного.
Это потому, что теперь он стал чуточку моложе, чем был два часа назад, совершенно серьезно сказал он себе.
Дин пошел быстрее и больше не прихрамывал, и совсем не устал, но боялся признаться в этом самому себе — ведь это была мечта, надежда, поиски, в которых никто никогда не признается.
Он шел куда глаза глядят. Ему нужно было отправляться домой. Было очень поздно, давно пора в постель.
Но он не мог произнести этого слова. Не мог облечь мысль в словесную оболочку.
Он пошел вверх по улице, мимо лужайки, заросшей кустарником, и увидел, что свет все еще просачивается сквозь спущенные занавеси. «Это и Стаффи, и я сам, и старина Эйб Хокинс. Нас много…»
Дверь отворилась: на пороге стояла Воспителла, спокойная и красивая. Она нисколько не удивилась. Словно она специально ждала меня, подумал Дин.
И увидел остальных двух, которые сидели у камина.
— Пожалуйста, входите в дом, — предложила Воспителла. — Мы очень рады тому, что вы решили вернуться. Все дети ушли. Давайте поговорим в тишине и покое.
Он вошел и снова сел в кресло и аккуратно положил шляпу себе на колено.
Еще раз дети пробежали по комнате, и он почувствовал себя вне времени и пространства и услышал смех.
Он сидел в кресле и думал, покачивая головой, а Воспителлы ждали.
Трудно, думал он. Трудно найти нужные слова.
И вновь, как много лет назад, он почувствовал себя учеником, которого учитель вызвал отвечать урок.
Они все еще ждали, но они были терпеливы; надо дать ему время.
Он должен сказать об всем как следует. Он должен добиться того, чтоб они поняли. Он не может просто сболтнуть, что придется. Его слова должны прозвучать естественно и в то же время быть логичными.
«Но как сделать, чтобы в них была логика?» — спросил он себя.
В том, что старики, подобные ему и Стаффи, нуждаются в Воспителлах, не было ни капли логики.
Была суббота, и дело шло к вечеру, так что я устроился на крылечке и решил как следует поддать. Бутылку я держал под рукой, настроение у меня было приподнятое и поднималось все выше, и тут на дорожке, ведущей к дому, показались двое — пришелец и его робот.
Я сразу смекнул, что это пришелец. Выглядел он в общем-то похожим на человека, но за людьми роботы по пятам не таскаются.
Будь я трезв, как стеклышко, у меня, может, глаза слегка и полезли бы на лоб: с чего бы пришельцу взяться у меня на дорожке, — и я бы хоть чуточку усомнился в том, что вижу. Но трезв я не был, вернее, был уже не вполне трезв.
Так что я ответил пришельцу «Добрый вечер» и предложил присесть. А он ответил «Спасибо» и сел.
— Ты тоже садись, — обратился я к роботу и подвинулся, чтоб ему хватило места.
— Пусть стоит, — ответил пришелец. — Он не умеет сидеть. Это просто машина.
Робот лязгнул на него шестеренкой, а больше ничего не сказал.
— Глотни, — предложил я, приподнимая бутылку, но пришелец только головой помотал.
— Не смею, — ответил он. — Метаболизм не позволяет.
Это как раз из тех хитроумных слов, с какими я немного знаком. Когда работаешь в лечебнице у доктора Абеля, поневоле поднахватаешься медицинской тарабарщины.
— Какая жалость! — воскликнул я. — Не возражаешь, если я хлебну?
— Нисколько, — сказал пришелец.