Мир сновидений - [7]
(1900)
ОДИНОКИЙ ЛЫЖНИК
YKSIN HÜHTÄJÄ
* * *
* * *

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
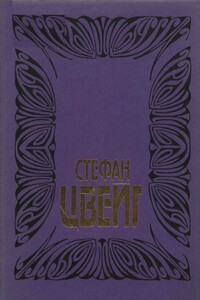
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».