Мир не в фокусе - [47]
Так, потихоньку, одно за другим, с пятого на десятое, всхлипывая, она мне все рассказала. Трагедия ребенка, иногда такое случается и об этом стараются напрочь забыть, окунувшись с головой в ничтожные, но упорядоченные дела, без особых последствий, насильно вытеснить воспоминания, но они выныривают, ранят, режут по живому, искажая все, на всем оставляя отпечаток безнадежности, настолько все это памятно, — невыносимая драма, оставившая и в душе, и в плоти невещественный след, куда более ощутимый, чем открытая рана. И хотя ни ран, ни шишек, по-видимому, уже нет и в помине, как нет и ничего, что не давало бы жить, все равно что-то притаилось, какой-то осадок, и вот опять ухитряется все искорежить. А ты, подбирающий осколки разбитой памяти, острые, как стекло, больше не можешь быть безучастным наблюдателем — тихим и неподвижным, не имеющим ни сил, ни воли замолвить утешительное слово или хоть как-то еще проявить свое сострадание, и все слова, понятия, дела сдвинулись с привычных мест, а сам ты превращаешься в сейсмограф, фиксирующий подземные толчки чужого горя, в писца, регистрирующего чей-то плач, ты весь — само внимание, но остаешься только свидетелем страданий, смирившимся с тем, что не можешь их разделить. Обещаю, Тео, я никому ничего не скажу. Это твое сокровенное, твоя боль. Никого это больше не касается.
Настала ночь, золотистый свет фонаря залил всю комнату, и на паркете распласталась тень от оконного переплета. Тео, закончив свою исповедь, реже стала всхлипывать, наконец встала, чтобы задернуть занавеску с растительным орнаментом, висевшую на латунном карнизе и не слишком перекрывавшую доступ свету, отодвигавшему все-таки ночные страхи на некоторое расстояние в этой относительной полутьме. Вернувшись, она растянулась на постели, оперлась локтем на подушку, опустив голову на руку, а другой рукой притянула меня к себе, и мы улеглись лицом к лицу, глаза в глаза.
В сумеречном свете, сочившемся сквозь занавески, я видел, как блестят глаза Тео, ее прекрасные, растерянные, почти молящие глаза, и мне казалось, что она готова броситься на шею первому встречному, если он пообещает облегчить ее страдания. Какое искушение стать тем самым доктором Айболитом, который может излечить от сердечной золотухи, а губы ее оказались так близко, что это и впрямь походило на игру в доктора, которая годилась даже для застенчивого неумехи: преодолеть несколько сантиметров, которые нас разделяли. Но едва я прикоснулся к ее губам, как она резко отстранилась, даже слегка отодвинулась, чтобы сказать еще кое-что; она хотела, чтобы все было совершенно ясно и я бы знал, чего мне следует ожидать, между нами не должно быть ни малейшего облачка.
А я-то думал, что после первого откровения самое тяжелое позади, что теперь мне все нипочем: говори, я слушаю все так же внимательно, все с таким же интересом, — и правда, слушая ее, я чувствовал, что ей надо как-то определиться: смерть отца потрясла ее так, что она официально обручилась с человеком, намного ее старше, но вскоре порвала с ним, а дальше пошла целая череда приключений, в том числе и с женщинами, поэтому чувствовала она себя немного растерянной, — и я понимал, что она пыталась объяснить, как ей трудно найти мне местечко посреди этой несусветно сложной галактики. Все это свидетельствовало о ее необычайной честности, даже если я считал, что мои жизненные обстоятельства в масштабе всей планеты выглядят куда как благоприятнее. Однако, зная, насколько небо переменчиво, и опасаясь, как бы мне не прождать сто семь лет, пока опять не объявится моя прекрасная комета, я спросил самого себя, так ли это действительно лестно, что я для нее совершенно не похож на всех остальных, ведь сам-то я ничего не хочу, кроме как походить на тех, кто держал ее в своих объятиях.
И, злоупотребляя своей ролью конфидента, от всего сердца желая разделить участь нормальных людей, я осмелился просунуть руку под ее черный свитер, который она надевала прямо на голое тело, и осторожно, кончиками пальцев, скользнул вверх по спине до застежки лифчика. И это уже многое говорило о Тео, поведение которой лишь невнимательные наблюдатели могли объяснить сексуальной революцией (я, судя по всему, пропустил ее начало), ведь по манере одеваться Тео совсем не вписывалась в рамки этой самой революции, впрочем, отнюдь не строгие. Так что красавица держала свою планку. Это открытие меня успокоило, и я почувствовал, что вполне готов услышать последнее признание. Видимо, не все еще было сказано (губы снова от меня отодвинулись, и я уже стал немного уставать оттого, что меня все время прерывают). Да, Тео? Нет, на сей раз ей слишком стыдно. Ну ладно, говори же, разве есть еще что-то такое, чего я теперь не мог бы понять? Мы вместе перелистали самые сокровенные, самые интимные страницы дневника ее душевных ран — какая кода, какие объяснения могли сказать больше, чем грустный свет, лившийся из ее глаз? Все остальное второстепенно, быть может, стыдно, но из ряда обычных несуразностей жизни.
Но когда я ощутил под своими пальцами ее кожу, моя способность к сопереживанию заметно поколебалась, и я даже стал проявлять некоторые признаки нетерпения. Хорошо, расскажи мне все, Тео, и не будем больше об этом, хватит уже так жестоко лишать меня твоих губ. Она запнулась, на мгновение задумалась: нет, и впрямь, не надо, не настаивай. Я попытался настроить ее на рассказ, как это делал раньше. Что-то тяжелое? Она от этого, должно быть, еще не оправилась? Возможны какие-то последствия? Нет-нет… что я там себе вообразил? К тому же, она сожалеет, что понапрасну затеяла этот разговор, и потом нечего тут особенно раздувать, в конце концов это ее личное дело. Я ни о чем и не спрашивал, как хочешь, Тео. И, когда мы снова принялись за любовную игру, в голову мне стали приходить самые дурные предположения из каталога проступков, в которых признаться невозможно: переспала с профессором, чтобы узнать экзаменационные вопросы? занималась проституцией? была замужем за банкиром? скомпрометировала себя с судьей? завербовалась в полицию? — но разберемся в этом позже, потому что Тео, задрав руки, стаскивала с себя свитер, и в темноте внезапно вспыхнули два белых пятна ее лифчика, и уже ни о чем другом, как вы понимаете, думать я не мог.
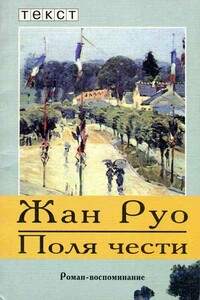
«Поля чести» (1990) — первый роман известного французского писателя Жана Руо. Мальчик, герой романа, разматывает клубок семейных воспоминаний назад, к событию, открывающему историю XX века, — к Первой мировой войне. Дойдя до конца книги, читатель обнаруживает подвох: в этой вроде как биографии отсутствует герой. Тот, с чьим внутренним миром мы сжились и чьими глазами смотрели, так и не появился.Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России.
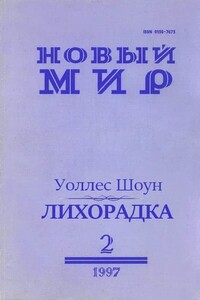
«Я путешествую… и внезапно просыпаюсь в предрассветной тишине, в незнакомом гостиничном номере, в бедной стране, где не знают моего языка, — и меня бьет дрожь… Лампа возле кровати не зажигается, электричества нет. Повстанцы взорвали мачты электролинии. В бедной стране, где не знают моего языка, идет маленькая война». Путешествуя по нищей стране вдали от дома, неназванный рассказчик «Лихорадки» становится свидетелем политических преследований, происходящих прямо за окном отеля. Оценивая жизнь в комфорте, с определенными привилегиями, он заявляет: «Я всегда говорю друзьям: мы должны радоваться тому, что живы.

Он встретил другую женщину. Брак разрушен. От него осталось только судебное дозволение общаться с детьми «в разумных пределах». И теперь он живет от воскресенья до воскресенья…
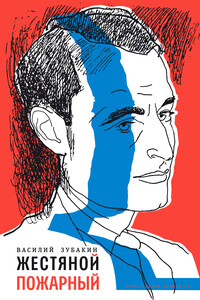
Василий Зубакин написал авантюрный роман о жизни ровесника ХХ века барона д’Астье – аристократа из высшего парижского света, поэта-декадента, наркомана, ловеласа, флотского офицера, героя-подпольщика, одного из руководителей Французского Сопротивления, а потом – участника глобальной борьбы за мир и даже лауреата международной Ленинской премии. «В его квартире висят портреты его предков; почти все они были министрами внутренних дел: кто у Наполеона, кто у Луи-Филиппа… Генерал де Голль назначил д’Астье министром внутренних дел.

А вы когда-нибудь слышали о северокорейских белых собаках Пхунсанкэ? Или о том, как устроен северокорейский общепит и что там подают? А о том, каков быт простых северокорейских товарищей? Действия разворачиваются на северо-востоке Северной Кореи в приморском городе Расон. В книге рассказывается о том, как страна "переживала" отголоски мировой пандемии, откуда в Расоне появились россияне и о взгляде дальневосточницы, прожившей почти три года в Северной Корее, на эту страну изнутри.
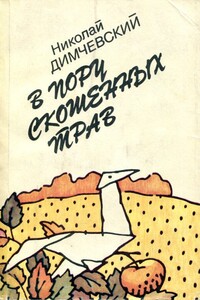
Герои книги Николая Димчевского — наши современники, люди старшего и среднего поколения, характеры сильные, самобытные, их жизнь пронизана глубоким драматизмом. Главный герой повести «Дед» — пожилой сельский фельдшер. Это поистине мастер на все руки — он и плотник, и столяр, и пасечник, и человек сложной и трагической судьбы, прекрасный специалист в своем лекарском деле. Повесть «Только не забудь» — о войне, о последних ее двух годах. Тяжелая тыловая жизнь показана глазами юноши-школьника, так и не сумевшего вырваться на фронт, куда он, как и многие его сверстники, стремился.

"... У меня есть собака, а значит у меня есть кусочек души. И когда мне бывает грустно, а знаешь ли ты, что значит собака, когда тебе грустно? Так вот, когда мне бывает грустно я говорю ей :' Собака, а хочешь я буду твоей собакой?" ..." Много-много лет назад я где-то прочла этот перевод чьего то стихотворения и запомнила его на всю жизнь. Так вышло, что это стало девизом моей жизни...