Миньона - [6]
И ее голос обрывается, точно последний всхлип погибающей жизни…
«Браво! брависсимо!» — раздаются около Степурина оглушительные голоса — и сновидение исчезает, а с ним вместе рассеивается предательский туман; но сама Фиорентини все еще заслонена от него, точно облаком, и, когда она раскланивается с публикой, он ее не различает, а только видит красный цветок, трепещущий на ее высокой прическе, и фрачные фалды синьора Коки, убирающего ноты. Шум все не прекращается, и певица снова появляется на вызов и кланяется, еще и еще, но Степурин опять ничего не видит, кроме красного трепещущего цветка. Теперь аплодисменты превращаются в настоящую бурю: хлопали все — дамы и мужчины, штаб- и обер-офицеры, трезвые и подвыпившие, и, разумеется, оглушительнее всех — подпоручик Дембинский…
Не хлопал один Степурин. Он стоял по-прежнему повали всех, прислонившись к стене, неподвижный и смертельно бледный, устремив растерянный, помутившийся взгляд в сторону занавеса, за которым скрылась чародейка Фиорентини. Если бы его спросили, что это с ним таков произошло, он едва ли бы сумел ответить. Он знал лишь одно, что это произошло с ним в первый раз в жнзни: какая-то совсем новая, ослепительно-светлая волна врасплох налетела на него, обожгла и, захватив с собой, понесла, как беспомощного и покорного ребенка, в неведомую и блаженную даль… Он видит, что концерт кончился и быстро остывшая мухрованская публика, зевая, расходится; он явственно слышит шум раздвигаемых стульев, звяканье шпор и шуршание дамских юбок и в то же время ничего не видит и не понимает, отчего все кончилось и отчего все расходятся, и ничего не слышит, кроме одного всезаглушающего, манящего, священного призыва: «Amare e morire…» «Да, да, morire!» — думает он настойчиво про себя, сдерживая подступающие к горлу слезы. О, какое бы это было счастье, если б умереть сейчас, здесь, на этом самом месте, ни на секунду не выходя из своего сладостного оцепенения…
— Ну, что, брат Степурин, как тебя пробрала синьорита? — раздается под самым его ухом хриплый голос «Зеленого змия».
— Да… хорошо… только мне пора… скорей туда… — бормочет он бессвязно и стремительно бросается к выходу.
— Стой!.. куда?.. — кричат ему вслед Нищенков и Дембинский. — Эй, пустынник!.. мы ведь вместе до дому?..
Но Степурин ничего не отвечает и, лихорадочно-поспешно накинув на плечи пальто, выбегает на улицу. Он хочет еще раз во что бы то ни стало видеть волшебницу. Он знал, что у «благородки» есть другой подъезд со стороны двора, и был безотчетно уверен, что она выйдет Именно с этого подъезда, и выйдет сейчас же, так что нельзя медлить ни минуты. Затем ли он торопился, чтобы вымолить цветок на память или еще раз увидеть те чудесные глаза, в глубине которых выглянула на миг детская душа Миньоны, или просто, в силу бессознательного инстинкта, удержать ускользающее счастье?.. Он в этом не отдавал себе отчета, как не отдавал отчета во всем происшедшем с ним любовном захвате. Как раз когда он подходил, в стоявший перед подъездом фаэтон скользнула из дверей укутанная женская фигура, похожая на Фиорентини, и так как сеял дождь и кузов экипажа был поднят, трудно было угадать, была ли это действительно она. Но это была она, Степурин это знал с ясновидением влюбленного, и когда из глубины фаэтона ломаный мужской голос крикнул: «Пашель!», Степурин ринулся как сумасшедший к коляске, простирая умоляюще руки и рискуя ежеминутно быть раздавленным. В фаэтоне на минуту произошло замешательство: она спросила что-то по-итальянски, он сердито перебил ее на каком-то смешанном наречии, и до Степурина явственно дошли слова: «русский пьяный официр». Затем раздалось вторично: «Пашель, дурак!..» Лошади рванули, и экипаж исчез под воротами, обдав очарованного поручика комьями грязи.
Но поручик нимало не оскорбился этим обстоятельством, потому что смутно не мог не сознавать, что все, что он проделал, было до крайней степени глупо и бесцельно, и потому, что дрожавший в его душе пленительный призыв «Amare e morire» наполнял его всего такой сладостной истомой, которая совершенно отделяла его от внешнего мира… Куда идти?.. Чего теперь ждать! К чему жить?!
Он поправил съехавшее с плеч пальто и почувствовал, как его толкнула под локоть дужка револьвера, лежавшего в боковом кармане. Степурин вздрогнул как бы от минутного озноба и странно-задумчивый вышел на улицу… Машинально обогнул он малолюдную улицу, где помещалось благородное собрание, машинально перешел базарную площадь, миновал растянувшееся за ней жидовское предместье и скоро вышел на большую дорогу, ведшую к крепости. По обеим сторонам его была теперь степь, огромная, безотрадная бессарабская степь — сплошное море темноты и грязи. Но на Степурина все это не производило ни малейшего впечатления — ни угнетающая темнота, ни топкая поколенная грязь, ни сеявший как сквозь решето лихорадочный ноябрьский дождик. Точно добиваясь сосредоточенной и быстрой ходьбой заглушить тупую боль, сверлившую его сердце, он продолжал шагать, весь мокрый и грязный, по отвратительному осеннему месиву, и продолжал бы шагать до бесконечности, пока бы не подкосились от устали ноги, если бы его шаг не отдался вдруг на деревянном помосте… и, остановившись, он увидел себя посреди крепостного моста перед главными крепостными воротами.
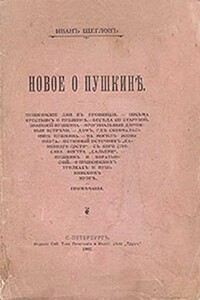
(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)Издание представляет собой дорожные впечатления и кабинетные заметки Ивана Щеглова об Александре Сергеевиче Пушкине, сосредоточенные, по преимуществу, на мотивах и подробностях, мало или совсем не затронутых пушкинианцами.

(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)
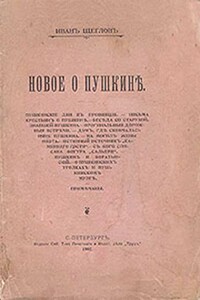
(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)Издание представляет собой дорожные впечатления и кабинетные заметки Ивана Щеглова об Александре Сергеевиче Пушкине, сосредоточенные, по преимуществу, на мотивах и подробностях, мало или совсем не затронутых пушкинианцами.

(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)
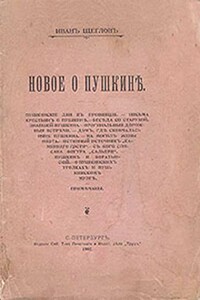
(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)Издание представляет собой дорожные впечатления и кабинетные заметки Ивана Щеглова об Александре Сергеевиче Пушкине, сосредоточенные, по преимуществу, на мотивах и подробностях, мало или совсем не затронутых пушкинианцами.

(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
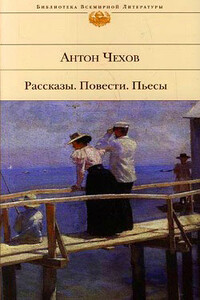
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.