Minima philologica. 95 тезисов о филологии; За филологию - [9]
при этом раствориться?
41. Алоиз Ригль заметил в позднеримском искусстве изменение в организации пространства, которое с тех пор стало решающим для истории, и охарактеризовал его как «эмансипацию интервала»[23]. Это формула и филологии тоже. Она эмансипирует интервал от его граничных феноменов и, заходя на шаг дальше, делает выводы о феноменах на основании интервала между ними, о феноменальных движениях – на основании а-феноменальных в пространстве между ними, о пространстве – на основании четвертого измерения и, наконец, о каждом измерении – на основании того, что вне измерений.
42. M’illumino / d’immenso[24] (Унгаретти) – несоизмеримость лежит не по ту сторону языка; она и есть язык.
43. Из-за того, что язык бесконечно и дискретно превосходит себя, целью филологии должен быть языковой скачок.
44. У имени нет имени. Потому оно неназываемо. (Дионисий. Маймонид. Беккет[25].) Две предельные возможности филологии: филология как жизнь, которая свершается в назывании имени по буквам, а сама не может быть затронута никаким называнием. Так филология становится святыней и делом теологии как жизненного пути. Или же: язык используется как язык предложений [Satz-Sprache], ни в одном элементе не касающийся имени, потому что каждый из элементов растворяется в предложении. Филология предложений притязает на то, чтобы быть профанной. – Поскольку о жизни в имени нельзя говорить называнием, о ней следует молчать. Поскольку профанная филология не знает имени, а знает только бесконечную игру предложений, она не говорит ничего существенного или сверх-существенного. Эти две филологии сходятся в том, что они ничего не говорят о своем не-говорении. Для иной филологии, не вписывающейся в оппозицию теологического и профанного, остается одно: выговаривать именно это не-говорение. Но не происходит ли уже в них обеих именно это? Тогда теология, доведенная до предела, занималась бы всеобъемлющим профанированием, а профанная филология – теологизацией языка таким образом, что обе артикулировали бы некий а-теос или а-логос в анонимности имени. А той иной филологии выпадало бы на долю именно это прояснять – с большей точностью, чем хотелось бы двум другим.
45. В ходе секуляризации отменились воскресенье, Шаббат, выходной и праздник, рабочий день стал повседневным, язык повседневности и рабочий язык стали lingua franca, филология превратилась из среды развертывания сакрального в инструмент работы над счастьем, которого нельзя достичь ни посредством работы, ни в ней —; она стала, вдобавок ко всему, отраслью индустрии, производящей как массовые изделия, так и производителей массовых изделий. Один из решающих исторических вопросов, исследовать которые должна другая филология: а не могут ли все ее рабочие дни все равно выпадать на воскресенье? Не могут ли все труды, к которым она обращается и которые сама совершает, праздновать «воскресенье жизни» – по Гегелю или по Кено[26]. Эта другая филология не может стремиться к смыслу и цели, только к празднику.
46. Филология: в паузе языка.
47. Филология – событие отпущения языка от языка. Она – освобождение мира от всего, что о нем уже было сказано и что еще может быть сказано.
48. Раз язык говорит для значения, он должен быть способен говорить и в отсутствие значения. Раз он говорит для адресата, он должен быть способен говорить и в отсутствие адресата. Раз он говорит для чего-то, он должен быть неким «для» также и без «чего-то» и без предназначенного этому «чего-то» «для». Язык – процесс только наполовину онтологический; филология должна заниматься и второй половиной.
48.
49. Язык – это objeu[27] филологии.
Франсис Понж ухом филолога услышал в слове objet другое слово, objeu, и использовал его в своих текстах. Так он сочинил филологию, как – с бо́льшим размахом и галлюцинаторнее – и Джойс в «Поминках по Финнегану». Objeu – это объект, который сохраняет в игре свободу не превращаться в застывший предмет для субъекта. Это контригра против опредмечивания чего-либо в акте называния. Таким objeu может быть и любое слово, и язык в целом. В objeu язык играет против языка.)
Филология, которая, как всякий язык, есть язык языка и потому игра его непрограммируемого движения, это язык в trajeu[28].
50. Гельдерлиново «Есть ли на свете мера? Нет ее»[29] отвергает заявление Протагора, что эта мера – человек. Антропология не может задавать вопросов о человеке, поскольку считает, будто уже знает, что он – непоколебимая достоверность субъективности субъекта и как таковая – мера всех вещей. Одним словом, антропология знает, потому что не задает вопросов. В вопрошании, однако, любая достоверность отдана во власть языка, а о языке надо сказать, что он не может служить мерой. Муки вопрошающего – Эдипа – Гельдерлин называет «неописуемыми, неизъяснимыми, невыразимыми». Несоразмерность языка и неизъяснимого, выражения и невыразимого оставляет язык без меры – без métron[30]. Поэтому язык говорит у Гельдерлина в «свободных ритмах». – Языку, который не в ладах с самим собой и с которым поэтому явно что-то «неладно», может соответствовать только такая филология, которая не знает меры, унаследованной ли, современной ли. Филология в «свободных ритмах».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборнике статей отечественного филолога и политолога Вадима Цымбурского представлены «интеллектуальные расследования» ученого по отдельным вопросам российской геополитики и хронополитики; несколько развернутых рецензий на современные труды в этих областях знания; цикл работ, посвященных понятию суверенитета в российском и мировом политическом дискурсе; набросок собственной теории рационального поведения и очерк исторической поэтики в контексте филологической теории драмы. Сборник открывает обширное авторское введение: в нем ученый подводит итог всей своей деятельности в сфере теоретической политологии, которой Вадим Цымбурский, один из виднейших отечественных филологов-классиков, крупнейший в России специалист по гомеровскому эпосу, посвятил последние двадцать лет своей жизни и в которой он оставил свой яркий след.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ж.-П. Вернан - известный антиковед, в своей работе пытается доступно изложить происхождение греческой мысли и показать ее особенности. Основная мысль Вернана заключается в следующем. Существует тесная связь между нововведениями, внесенными первыми ионийскими философами VI в. до н. э. в само мышление, а именно: реалистический характер идеи космического порядка, основанный на законе уравновешенного соотношения между конститутивными элементами мира, и геометрическая интерпретация реальности,— с одной стороны, и изменениями в общественной жизни, политических отношениях и духовных структурах, которые повлекла за собой организация полиса,— с другой.
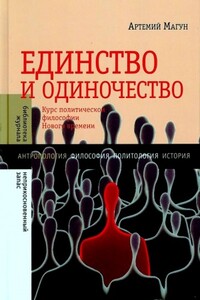
Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.