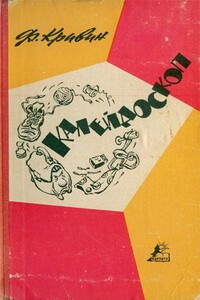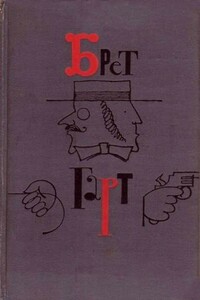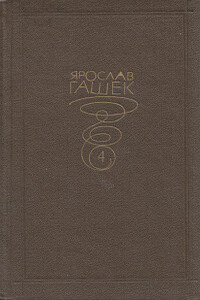Он сидел в этом тесном, становившемся для него все более семейным кругу и просил Дюймовочкину маму положить ему земляничного, давал советы бабушке, как лечить радикулит, а Дюймовочке помогал войти в образ (Большой Змей наконец усвоил то, чему учил его режиссер, и даже начал передавать из поколения в поколение). Он рассказывал, что вселенная бесконечна и нужно уметь раствориться в ней так, чтобы одновременно и сохраниться.
Здесь уже чувствовалась школа не режиссера, а заместителя директора «Дюймовочки», который умел раствориться в нужный момент, раствориться именно для того, чтоб сохраниться. Но это, конечно, в других делах, поскольку в конкретных делах любви заместитель директора был человеком поверхностным, чтоб не сказать — дилетантом. О победах Кузьминича Алмазов мог бы только мечтать, но он не мечтал о них, у него было много побед, связанных не с семейным, а с уголовным кодексом. А стоило ему заговорить о любви, как у него появлялось не свойственное ему косноязычие, и язык у него во рту ворочался, как пьяный тюлень в сухих и знойных песках Сахары.
В аскетической роли Большого Змея сердце Кузьминича не могло заиграть всеми своими гранями, и он с радостью принял предложение режиссера «Дюймовочки» сыграть Бобра Самуэля, очень симпатичного, славного бобра. Когда Крот Фердинанд в качестве своего главного аргумента говорит Дюймовочке: «Любовь зла, полюбишь и козла», — Бобер как бы вскользь замечает: «Если любовь зла, полюбишь козла, а если любовь добра, полюбишь бобра». — «Какого еще бобра?» — гневно вопрошает Крот Фердинанд, на что Самуэль, застенчиво опустив глаза, говорит: «От бобра бобра не ищут».
Увидев его в этой сцене, Дюймовочкина бабушка, относившаяся к Кузьминичу с недоверием, прослезилась, вспомнила собственную молодость и сказала:
— Теперь я тебя понимаю. Ты лучше, чем ты есть…
А мама Дюймовочки все больше думала об индейцах. Она понимала, что это нехорошо, что это, можно сказать, предательство по отношению к своему фильму, но что она могла поделать, если ее в последнее время как-то меньше интересовал Андерсен и больше интересовал Купер (естественно, Фенимор)? Дюймовочка не читала Купера, ей еще рано, но со временем она прочтет и поймет свою мать и навсегда забудет об Андерсене…
Стирание граней в искусстве не является чем-то специфическим для искусства (стирание граней между правдой и вымыслом, стихами и прозой, чужим и своим), оно наблюдается даже в сферах, не имеющих с искусством ничего общего. Так, например, не однажды было замечено стирание граней между умом и глупостью, хамством и вежливостью, а один наблюдатель, придающий чрезмерное значение внешности, заговорил даже о стирании граней между мужчиной и женщиной, что, уж конечно, сущая нелепость.
Стирание граней в искусстве не таит в себе столь катастрофических для человечества последствий, как стирание граней между мужчиной и женщиной, но и оно нежелательно, за исключением тех случаев, когда искусство обогащает искусство.
Хозяин Леса никак не мог выйти из образа. Он долго в него вживался и теперь вжился, кажется, навсегда. Уже давно улетел Игнатий, эпизод «На ромашковой полянке» был снят и забыт, а Хозяин Леса все еще ходил в образе Хозяина Леса…
Он бродил в окрестностях города в поисках той ромашковой полянки, на которой прошли его лучшие съемочные дни, где он, в окружении кинокамер и декоративных кустов, посаженных на месте вырубленных, чувствовал себя нужным не только своей семье, но, может быть, всему человечеству. Может быть, он надеялся, что его позовут…
И его позвали.
Есть немало индейских легенд, в которых лес имеет своего хозяина, и когда снимаешь фильм об индейцах, трудно обойтись без поверий и легенд…
— Введите, — сказал Куперу Саваоф.
— А как же метраж? Ведь придется добавлять эпизоды…
Если бы библейский бог Саваоф учитывал все эпизоды истории, которые ему впоследствии пришлось добавлять, если бы он считался с метражом и боялся выйти за рамки вечности, ему бы пришлось отказаться от идеи сотворения мира. Но он не отказался, его не пугал метраж. На такой же позиции стоял и его последователь.
Так Хозяин Леса стал поверьем, переступив грань, отделявшую «Большого Змея» от «Дюймовочки». Все меньше отделявшую и все больше соединявшую срань…
Крот Фердинанд сделал Дюймовочке предложение, предложил ей руку и сердце, а теперь ей предстояло с ним познакомиться. В жизни такой ход событий показался бы противоестественным, но в кино он вряд ли кого-нибудь удивит: просто декорации для предложения были готовы раньше, чем декорации для знакомства.
Крот Фердинанд отснялся со своим предложением и улетел, нисколько не заботясь о моральной и логической стороне дела, а Полевая Мышь Элеонора приехала, чтобы за чашкой чая как-нибудь ненароком, вскользь намекнуть Дюймовочке о возможном браке.
Полевая Мышь Элеонора была сравнительно молода, но не той легкомысленной молодостью, которая дается каждому в виде аванса, а молодостью другой, которая приходит с годами и уже не покидает нас до конца наших дней. Внешность Элеоноры, быть может, и не блестящая, но запоминающаяся, была известна еще по тем временам, когда Элеонора сыграла немую девочку в одном из первых звуковых фильмов и сыграла настолько удачно, что дала даже повод для дискуссии о преимуществах немого кино над звуковым, — дискуссии, окончившейся не в пользу немого кино, поскольку звуковое говорило само за себя и являлось шагом вперед па пути развития киноискусства.