Мицкевич - [177]
Но Адам сказал:
— Целина хочет, чтобы мы подали друг другу руки.
Она явно думала еще в эту минуту о детях.
София стояла потрясенная, скорбная; она не видела даже, как лицо Целины застыло неподвижной маской. Не поняла в первое мгновенье, почему Мицкевич сорвал вдруг зеркало со стены и приложил его холодным, трезвым движением к губам Целины. Как сквозь сон София услышала его твердый голос:
— Отошла…
Спустя два месяца после похорон жены Мицкевич писал госпоже Констанции Лубенской, которая сохранила дружбу к нему до этих поздних лет:
«Болезнь покойницы Целины долго продолжалась, и страдания ее были чрезвычайно жестоки… Эти последние минуты ее объяснили мне отчасти загадку стольких мучительных лет. Можно сказать, что в эти мгновенья разлуки мы впервые соединились. Она как будто обещала мне, что будет душою мне постоянно помогать и быть со мной. Отчего этого не было при жизни!
Не хочу распространяться об этих горестных событиях».
После смерти матери дети остались под опекой панны Шимановской, только маленький Юзя был отдан госпоже Фалькенгаген-Залеской, которая взяла его на воспитание. Снова стало шумно в комнатах, которые еще полны были умершей, как будто она не хотела оттуда уйти. Это вырастание из земных дел, этот переход в нечеловеческую форму распада и гниения организма, эта вторая, незримая стадия умирания, до чего же она горестна и ощутима для тех, кто остался в живых!
Весна в садах и парках Парижа, колышущая массы теплого воздуха, как бы останавливалась на пороге, у самого входа в библиотеку Арсенала. Под высокими сводами царила тишина. Книги в тесных шеренгах, как колонны солдат, стояли вдоль стен, казалось бы готовые к маршу. Но это была армия умерших. «Я погребен среди этих трупов», — признался однажды Мицкевич одному из друзей, указывая на шеренги книг в безмолвных залах библиотеки. За окном переливалась свежая зелень деревьев, сквозь распахнутые окна доносился стук экипажей и голоса прохожих. «Я погребен среди этих трупов», — повторил поэт.
Примерно в это время посетил Мицкевича Циприан Норвид, и об этом визите оставил нам в своих «Черных цветах» краткий отчет:
«Позднее, — вспоминает Норвид, — когда я вернулся в Европу, Адам Мицкевич обитал по соседству с площадью Бастилии, в здании библиотеки Арсенала, где и был библиотекарем. Место это дал ему человек, приход которого был им предсказан, человек из династии великого Наполеона (нынешний французский император); оно было пожертвовано в святой и непреходящей памяти Адаму Мицкевичу, — место небогатое, мало даже средств для пропитания многочисленной семьи приносящее и пожертвованное ему, кажется, уже много времени после того, как в газетах было сообщено, что профессор Коллеж де Франс Адам Мицкевич и малочисленные иные отказались принести присягу на верность французскому императору. Уже в позднейшие месяцы этого правления библиотекарь сложил в честь императора оду на языке Горация, которая не приличествовала ни его призванию, ни месту, данному ему.
Итак, незадолго до миссии на востоке, в которую после библиотекарства отправился пан Адам, я зашел в здание библиотеки Арсенала, здание мрачное, с бесконечными коридорами и каменными лестницами. Было это в воскресенье, ибо помню, что шел я с обедни и имел с собой молитвенник. А шел я приветствовать его более сердечно, ибо стал он мне ближе… ближе уже просто потому, что он вспоминал обо мне, когда я был в Америке, как до меня доходило, а когда я оттуда отплывал, он только сказал кому-то: «Это так, словно он отправился на Пер-Лашез!» — и, само собой разумеется, было мне приятно, что кто-то обо мне вспоминал в Европе, и поэтому я тоже с приятным чувством шел его приветствовать. Он весело взглянул на меня и обнял, и я разговаривал с ним до захода солнца, ибо помню, что окно заалело, когда я собрался уходить. Это была маленькая комнатка с жарко натопленной печью, в которой Адам время от времени поправлял, немного угли кочергой.
Одет был пан Адам в потертую шубейку, крытую серым сукном, — ума не приложу, откуда в Париже можно было раздобыть наряд этого цвета и покроя? Вопрос занятный, ибо это было, по-моему, нечто вроде халата, какой мелкие шляхтичи зимой носят в провинциях, порядком от Варшавы отдаленных. В комнатке висела прекрасная гравюра, представляющая святого Михаила Архангела, по оригиналу, который находится у капуцинов в Риме, или тоже по той картине Рафаэля, которая есть в Лувре, нынче уж хорошо не помню. Также Остробрамская Божья Матерь и оригинальный рисунок Доменикино, представляющий причащение святого Иеронима; еще также маленькая гравюрка с Наполеона Первого в кругу его генералов, а под ней дагерротип мужчины почтенного, стоящего прямо, в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, как ходят французские ветераны, — а было это, собственно, время начальных шагов последней войны… А на письменном столе, должно быть, недавно появилась у пана Адама статуэтка: два борющихся медведя — слепок из гипса.
Это было еще перед кончиной супруги Адама Мицкевича, после смерти и погребения которой, примерно две недели спустя, я вновь зашел к пану Адаму, должно быть в десятом часу утра, и застал его на пороге, — он тоже выходил в город, так что я чуть не столкнулся с ним, когда отворились двери. Итак, он возвратился еще примерно на полтора часа, которые я с ним проговорил, а потом мы вместе с ним вышли, потому что он должен был быть где-то еще полтора часа назад. Говорил мне о смерти жены подробно, очень спокойно, сделав небольшое отступление, что кончина и все дела, касающиеся смерти, вызывают в нас ужас потому, что мы не сознаем всей правды… И только когда я должен был на одной из улиц пойти другой дорогой, а он пойти как-то иначе, он пожал мне руку и громко сказал мне: «Ну… адье!» Никогда ни по-французски, ни таким тоном он не прощался со мной, а ведь столько раз мы прощались с ним, и я прошел потом чуть ли не на другой конец города и, поднимаясь к себе по лестнице, все слышал еще то слово: «…адье!»

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.
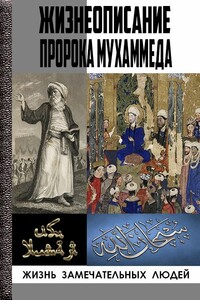
Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.
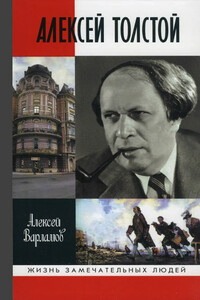
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.