Метроленд - [2]
На следующий день, в школе, я рассказал об этом Тони. Он был моим лучшим другом, которому я доверял все секреты, обиды и почти все увлечения.
— Они даже спектр испоганили, — сказал я, заранее предчувствуя скуку из-за очередного, уже неизвестно какого по счету острого приступа возмущения.
— Ты ясней выражаться не можешь?
Насчет того, кто такие «они», у нас неясностей не возникало. Когда я говорил «они», я имел в виду собирательный образ всех законников, моралистов, поборников общественной нравственности и отсталых родителей из лондонских предместий. Когда «они» говорил Тони, он имел в виду то же самое, только из старого центра города. Никто из нас не сомневался, что это одинаковый тип людей.
— Цвета. Уличные фонари. Когда темно, они искажают цвета Все становится коричневым или оранжевым. Такое впечатление, что ты на Луне.
В то время мы очень трепетно относились к цветам. Все началось во время летних каникул, когда я ходил гулять в парк и таскал с собой томик Бодлера. У него я прочел, что, если посмотреть на небо сквозь соломинку, его цвет будет более насыщенным и густым, чем если смотреть просто так. Я сразу послал Тони письмо и поделился открытием. После этого мы и обеспокоились за цвета. Цвета — и с этим никто не поспорит — представляют собой предельное, чистейшее выражение безбожия. И нам не хотелось, чтобы какие-то обыватели-бюрократы прибрали их к рукам. Они уже заполучили себе:
— …язык…
— …мораль…
— …приоритеты в системе ценностей…
но этому в принципе можно не придавать значения. Каждый волен выбрать свой путь и идти по нему с важным видом, наплевав на мнение окружающих. Но если они заграбастают и цвета?! Это будет уже катастрофа. Даже остаться самим собой станет проблематично. Смуглый Тони с его полными губами и ярко выраженными восточноевропейскими чертами в размытом оранжевом свете станет похожим на негра. Сам я — курносый, с сомнительно чистопородным английским лицом (совсем еще детским) — был в этом смысле в относительной безопасности. Но я нисколечко не сомневался, что «они» обязательно что-то такое придумают, чтобы добраться и до меня.
Как видите, в те дни у нас было немало поводов для беспокойства. А почему нет? Когда же еще беспокоиться о действительно важных вещах, как не в ранней юности?! Мы с Тони вовсе не волновались за нашу будущую карьеру, поскольку знали, что к тому времени, когда мы вырастем, государство будет платить таким людям, как мы, только за то, что они существуют — просто расхаживают по улицам, как эти люди-бутерброды с объявлениями и плакатами, и рекламируют хорошую жизнь. Нет… нас волновало совсем другое: чистота языка, самосовершенствование, предназначение искусства и плюс к тому некоторые абстракции, неосязаемые субстанции с большой буквы, как то: Любовь, Истина, Подлинность…
Наш блистательный идеализм вполне естественно проявлялся в форме воинствующего цинизма. Мы с Тони откровенно издевались над окружающими, причем из самых чистых — я бы даже сказал, искупительных, — побуждений. Мы избрали себе два девиза и руководства к действию: écraser l'infâme[4] и épater la bourgeoisie.[5] Мы восхищались gilet rouge[6] Готье и омаром Нерваля; нашей гражданской войной в Испании была bataille d'Hernani.[7] Мы распевали на два голоса:
Последняя строчка приводила нас в полный восторг, и при любой возможности мы старались ввернуть какой-нибудь ненарочитый омофон[9] в наши с ним высокопарные диалоги на уроках французского. Сначала нужно придумать какую-нибудь совершенно бредовую, но грамматически правильную фразу с обязательным по-галльски презрительным замечанием в скобочках по-английски… что-то типа:
«Je ne suis pas, э… d'accord ce qui, ce que? (нахмуренный взгляд в сторону учителя) Барбаровски э… ajuste dit…»[10]
а потом — прежде чем учитель успеет оправиться от расстройства, услышав такую вот идиотскую фразу, — кто-то из нашей группы заговорщиков, давясь смехом, должен вступить в разговор с репликой наподобие:
«Carrément, M'sieur, je crois pas que Phillips soit assez syphilisé pour bien comprendre ce que Барбаровски vient de proposer…»[11]
— и это всегда проходило.
Как вы уже наверняка догадались, мы с Тони так изощрялись в основном на французском. Нам нравилось, как он звучит: взрывные согласные и четкие, ясные гласные. И нам очень нравилась французская литература — из-за ее агрессивной воинственности. Французские авторы постоянно сражались друг с другом — защищали и очищали язык, устраняли сленговые словечки, составляли словари правильной речи, их сажали под арест, преследовали в судебном порядке за непристойное и непотребное поведение и высылали из страны, они настойчиво декларировали принципы «Парнаса», отчаянно подсиживали друг друга за места в Академии искусств и плели интриги за литературные премии. Нас привлекала сама идея такого изощренного и бескомпромиссного буйства. Монтерлан и Камю были вратарями. Фотография Анри де[12] из «Пари-Матч», где он тянется за высоким мячом — кстати, я ее вырезал, завернул в целлофан и хранил у себя в столе, в запирающемся ящике, — вызывала не меньше благоговения, чем портрет Джун Ритчи в «Как будто любовь» работы Джеффа Гласса.
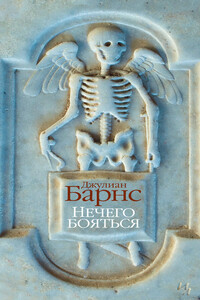
Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «История мира в 10/2 главах», «Любовь и так далее», «Метроленд», и многих других. Возможно, основной его талант – умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство – Барнсу подвластно все это и многое другое.
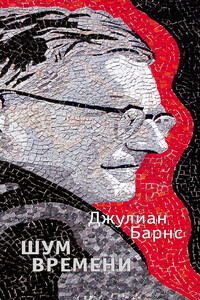
«Не просто роман о музыке, но музыкальный роман. История изложена в трех частях, сливающихся, как трезвучие» (The Times).Впервые на русском – новейшее сочинение прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автора таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «Любовь и так далее», «Предчувствие конца» и многих других. На этот раз «однозначно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм» обращается к жизни Дмитрия Шостаковича, причем в юбилейный год: в сентябре 2016-го весь мир будет отмечать 110 лет со дня рождения великого русского композитора.
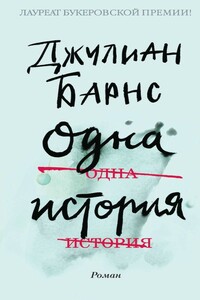
Впервые на русском – новейший (опубликован в Британии в феврале 2018 года) роман прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, командора Французско го ордена искусств и литературы, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии. «Одна история» – это «проницательный, ювелирными касаниями исполненный анализ того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека» (The Times); это «более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в „Предчувствии конца“ – романе, за который он наконец получил Букеровскую премию» (The Observer). «У большинства из нас есть наготове только одна история, – пишет Барнс. – Событий происходит бесчисленное множество, о них можно сложить сколько угодно историй.
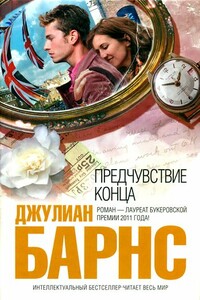
Впервые на русском — новейший роман, пожалуй, самого яркого и оригинального прозаика современной Британии. Роман, получивший в 2011 году Букеровскую премию — одну из наиболее престижных литературных наград в мире.В класс элитной школы, где учатся Тони Уэбстер и его друзья Колин и Алекс, приходит новенький — Адриан Финн. Неразлучная троица быстро становится четверкой, но Адриан держится наособицу: «Мы вечно прикалывались и очень редко говорили всерьез. А наш новый одноклассник вечно говорил всерьез и очень редко прикалывался».

Казалось бы, что может быть банальнее любовного треугольника? Неужели можно придумать новые ходы, чтобы рассказать об этом? Да, можно, если за дело берется Джулиан Барнс.Оливер, Стюарт и Джил рассказывают произошедшую с ними историю так, как каждый из них ее видел. И у читателя создается стойкое ощущение, что эту историю рассказывают лично ему и он столь давно и близко знаком с персонажами, что они готовы раскрыть перед ним душу и быть предельно откровенными.Каждый из троих уверен, что знает, как все было.
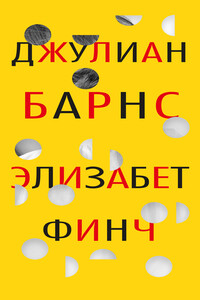
Впервые на русском – новейший роман современного английского классика, «самого изящного стилиста и самого непредсказуемого мастера всех мыслимых литературных форм» (The Scotsman). «„Элизабет Финч“ – куда больше, чем просто роман, – пишет Catholic Herald. – Это еще и философский трактат обо всем на свете».Итак, познакомьтесь с Элизабет Финч. Прослушайте ее курс «Культура и цивилизация». Она изменит ваш взгляд на мир. Для своих студентов-вечерников она служит источником вдохновения, нарушителем спокойствия, «советодательной молнией».

УДК 821.161.1-1 ББК 84(2 Рос=Рус)6-44 М23 В оформлении обложки использована картина Давида Штейнберга Манович, Лера Первый и другие рассказы. — М., Русский Гулливер; Центр Современной Литературы, 2015. — 148 с. ISBN 978-5-91627-154-6 Проза Леры Манович как хороший утренний кофе. Она погружает в задумчивую бодрость и делает тебя соучастником тончайших переживаний героев, переданных немногими точными словами, я бы даже сказал — точными обиняками. Искусство нынче редкое, в котором чувствуются отголоски когда-то хорошо усвоенного Хэмингуэя, а то и Чехова.
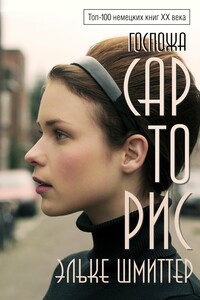
Поздно вечером на безлюдной улице машина насмерть сбивает человека. Водитель скрывается под проливным дождем. Маргарита Сарторис узнает об этом из газет. Это напоминает ей об истории, которая произошла с ней в прошлом и которая круто изменила ее монотонную провинциальную жизнь.
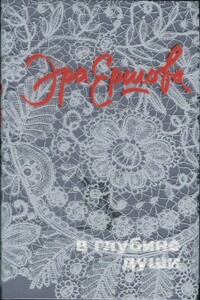
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.
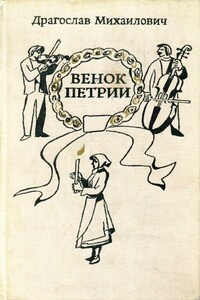
Роман представляет собой исповедь женщины из народа, прожившей нелегкую, полную драматизма жизнь. Петрия, героиня романа, находит в себе силы противостоять злу, она идет к людям с добром и душевной щедростью. Вот почему ее непритязательные рассказы звучат как легенды, сплетаются в прекрасный «венок».
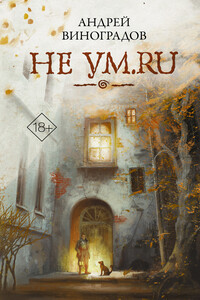
Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!
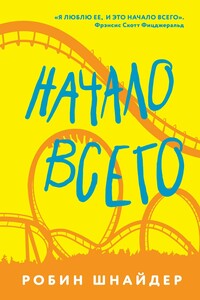
Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.