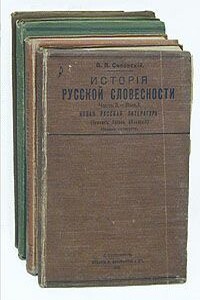Метла Маргариты - [7]
Автор данной работы склонен расшифровывать булгаковскую аббревиатуру МАССОЛИТ как «МАСтера СОциалистической ЛИТературы», расценивая ее как раскрывающую отношение писателя к Союзу советских писателей (31 мая 1960 года Лидия Корнеевна Чуковская внесла в свой дневник такую запись: «„Союз Профессиональных Убийц“, так называл Союз писателей Булгаков»)[26]. Не напоминает ли это образование аббревиатуры «Комсомол», которая образована от слов «КОМмунистический СОюз МОЛодежи»?..
Вспомним: по фабуле романа, критик Латунский громил в прессе Мастера за «пилатчину»; считается, что под этим персонажем Булгаков подразумевал некоего Литовского, в общем-то довольно мелкую рапповскую фигуру, критиковавшего его в печати. Не стоит ли рассмотреть другое объяснение – что в образе ЛатУНСКОГО Булгаков все-таки вывел ЛУНачарСКОГО? Ведь такая его оценка, как «У нас, пожалуй, нет другого столь ярко выраженного писателя, контрреволюционного, как Булгаков», высказанная в 1927 году в докладе на партийном совещании в отделе агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), вряд ли могла способствовать сближению их позиций, в том числе и в отношении концепции о мастерстве в литературе. Не следует ли, что Луначарский ярко раскрыл этот булгаковский образ еще до того, как сам Булгаков ввел его в свой роман? Следует ли считать, что Булгаков мог добровольно дополнить своей персоной предложенный Луначарским ряд мастеров: Маркс, Энгельс, Ленин?..
И, прежде чем перейти к вопросу о том, как преломился булгаковский замысел в образе, наделенном сатанинским имечком «Мастер», не лишним будет упомянуть, что сам Булгаков совершенно четко и однозначно выразил свое эстетическое кредо относительно содержания понятия о мастерстве в художественном творчестве еще в своей критической статье, посвященной творчеству Юрия Слезкина. В этой статье, впервые опубликованной в 1922 году в журнале «Сполохи», критическому осуждению была подвергнута именно безупречно-мастерская манера письма Слезкина. К сожалению, эта статья не была включена в пятитомное собрание сочинений Булгакова; в наши дни она была опубликована в сборнике «Багровый остров. Ранняя сатирическая проза» (М.: «Художественная литература», 1990 г.).
Содержание и направленность этой статьи Булгакова свидетельствует о том, что отношение писателя к вопросу о «мастерстве» совпадало с позицией Пушкина, Грибоедова, Бунина и было прямо противоположно той позиции, которой придерживались Писарев, Луначарский, Горький. Полагаю, что, поскольку Булгаков достаточно недвусмысленно проявил свое отношение к этому вопросу, дальнейшие попытки позитивного толкования понятия «мастер» применительно к содержанию романа «Мастер и Маргарита» могут только еще дальше уводить исследователей от истины.
Глава III. От Ивана Николаевича до Иванушки, или Почему Мастер не заслужил «света»?
Пора сорвать маску, что он великий художник. У него, правда, был талант, но он потонул во лжи, в фальши.
И. А. Бунин[27]
Я утратил бывшую у меня способность описывать что-нибудь.
Мастер[28]
Все рассуждения о позитивности образа Мастера строятся исключительно на содержащемся в тринадцатой главе его собственном рассказе Бездомному в клинике. Рассказе, следует отметить, непоследовательном и во многих моментах противоречивом. Авторские же характеристики, если они не согласуются со сложившимся стереотипом, почему-то не принимаются во внимание.
Первое, на чем необходимо остановиться, – изжеванный вопрос о названии тринадцатой главы – «Явление героя», в которой Мастер впервые вводится в поле зрения читателя. На то, что глава носит «инфернальный» номер, обращают внимание многие исследователи, – не делая, правда, из этого никаких выводов относительно как содержания главы, так и истинной роли самого «героя».
О том, что глава «инфернальна», спору нет; удивляет то, что никто не ставит вопрос: где же в ней нечистая сила – ведь там всего два действующих лица – поэт Бездомный, которого читатель уже хорошо знает и за представителя потусторонних сил принять никак не может, да «герой» Мастер, предстающий в толкованиях некоторых исследователей эдаким херувимчиком, да и то на основании его собственного рассказа. Кстати, в редакции романа 1934–1936 годов глава с повествованием о событиях в клинике не только имела тот же тринадцатый номер (хотя количество глав было иным), но и название было более «инфернальное» – «Полночное явление»… Только визитер был другой – сатана Воланд (он же в первых редакциях романа – Мастер) собственной персоной, да еще с черным пуделем.
Выходит, что тринадцатая глава «инфернальна» не только по номеру, но и по той функции, которую выполняют два визитера с антагонистическими, если встать на общепринятую точку зрения, функциями. Есть смысл попристальнее вглядеться в название этой главы в окончательном варианте. Не стану оспаривать тех, кому слова «Явление героя» напоминают картину А. А. Иванова «Явление Христа народу»; напомню лишь, что слово «явление» имеет и другое, широко распространенное в разговорной речи значение, именно когда подразумевается нечистая сила[29]. О том, что Булгаков использовал это слово именно в таком смысле, свидетельствует один из вариантов названия романа – «Он явился» (подразумевается Воланд).

Эта книга – событие не только для отечественного, но и для мирового читателя, хотя, возможно, она встретит немалое сопротивление и вызовет противоречивые чувства. Один из видных представителей круга неопушкинистов нашего времени (Лацис, Дружников, Петраков, Козаровецкий и др.), Альфред Барков, философ, аналитик, литературовед, рассматривает пушкинскую мистификацию вокруг «Евгения Онегина» и предлагает прочтение произведения, альтернативное традиционному.О наличии в романе большого количества противоречий и парадоксов написано немало.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.