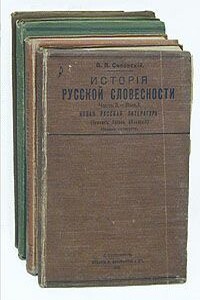Метла Маргариты - [12]
Очень информативный пассаж! Во-первых, оказывается, что якобы «временное» ведьмино косоглазие, которое исчезло после смерти Маргариты, вовсе не временное: оно появилось еще до ее первой встречи с Мастером, и роль ведьмы эта женщина приняла на себя еще до наступления описываемых в романе событий.
Во-вторых, трижды подряд, буквально залпом повторенные «правдивым повествователем» элементы сомнения: «Не знаю», «Мне неизвестно», «Очевидно, она говорила правду…» И уже буквально через несколько абзацев Булгаков показывает, что Маргарита неверна не только своему мужу, но и Мастеру (правда, в помыслах, но это не меняет сути): «Почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного, разве что только глупое слово «определенно»? Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключилась из жизни?».
После такого описания как-то не очень верится ни в душевный порыв со стороны подруги Мастера, ни в заверения «правдивого повествователя» о «верной, вечной» любви, поскольку помыслы действительно любящей женщины вряд ли наполняются вожделением при первой встрече с незнакомым «ловеласом».
И, наконец, оно не оставляет никаких сомнений в отсутствии у Маргариты той кротости, которая ассоциируется с образом героини Гете. Ведь кротость никак не совместима ни с «длинным непечатным ругательством» в ее лексиконе, ни с выражениями попроще: «Пошел ты к чертовой матери», «Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор…» и т. п. Обращенная к коту Бегемоту, последняя фраза, да и сами манеры Маргариты не остались неотмеченными; при появлении Мастера кот воспользовался случаем и прокомментировал их с неприкрытой ехидцей: «Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам почему-то говорят „ты“, хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта».
Более того, эти сомнения тут же усиливаются повтором о желтой мимозе, о чем читатель уже знает из рассказа Мастера Бездомному. В том описании мимоза сочеталась с фоном черного пальто Маргариты; во второй полной рукописной редакции этот момент был более усилен словами Мастера (в беседе с Бездомным): «Она несла свой желтый знак». Тогда, при первой встрече, когда Мастер сказал, что ему не нравятся эти цветы, Маргарита выбросила их. Но, как оказалось, это зловещее сочетание – желтое с черным, ассоциируемое с неверностью, изменой – было не случайным; более того, Маргарита от своей геральдики не только не отказалась, но и сшила Мастеру ту самую черную шапочку с желтой буквой «М».
Что касается целомудрия Маргариты, то в это понятие никак не укладывается ее эксгибиционизм. Можно допустить, да и то весьма условно, что на балу это выглядело как вынужденный акт самопожертвования; но навязчивая демонстрация своей наготы соседу, заявления типа «Мне нравится быстрота и нагота», «Плевала я на это» (в ответ на предупреждение Мастера «Ты хоть запахнись» перед появлением Азазелло) показывают, что стыдливостью Маргарита не страдала.
О том, что главная героиня романа изначально замышлялась Булгаковым как воплощение порочных начал, свидетельствуют опубликованные недавно ранние редакции романа. Так, во второй полной редакции в сцене натирания кремом была такая характеризующая героиню фраза: «Сверкая распутными глазами»[44]. А вот выдержка из описания того, что в соответствии с первоначальным замыслом происходило на шабаше у Воланда (собственно, в окончательной редакции описано то же, только в более смягченном виде):
«Гроздья винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась – ножкой вазы служил золотой фаллос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он ожил в ее руке. Заливаясь хохотом и отплевываясь, Маргарита отдернула руку. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый, с горящими глазами, прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности, другой – фрачник – привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию. Девчонка уселась на корточки перед Маргаритой, начала целовать ее колени.
– Ах, весело! Ах, весело! – кричала Маргарита, – и все забудешь. Молчите, болван! – говорила она тому, который шептал, и зажимала ему горячий рот, но в то же время сама подставляла ухо».
Хочется надеяться, что апологеты «светлых образов» улавливают смысловую разницу между просто «плеваться» и «отплевываться»? Или их целомудрие не позволяет вникать в такие вопросы?..
Да, очень яркий пассаж. Но при чтении его не покидает чувство удивления – как можно после такого красочного описания поведения шлюхи настаивать на версии о том, что под Маргаритой Булгаков подразумевал свою собственную жену, даже если она когда-то и давала для этого повод (если верить В. Я. Лакшину)[45]. Ведь русский человек может поставить жене синяк под глазом, может глаз выбить; может, наконец, выгнать ее в ночной сорочке на мороз; но изобразить ее в таком виде письменно… Нет, на такое зверство ни один русский не способен…
Как бы там ни было, интерпретация образа Маргариты в ключе таких понятий как «светлая королева», «пленительный образ» и т. п. не выдерживает никакой критики.
Вот как выглядит в окончательной редакции романа практически аналогичный эпизод: Маргарита не упускает момент и кокетничает даже в совершенно экстраординарных обстоятельствах, в квартире № 50: «Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер, – кокетливо поглядывая на Азазелло, сказала Маргарита». При этом то обстоятельство, что бал закончился и уже нет необходимости оставаться в совершенно обнаженном виде, ее абсолютно не смущает.

Эта книга – событие не только для отечественного, но и для мирового читателя, хотя, возможно, она встретит немалое сопротивление и вызовет противоречивые чувства. Один из видных представителей круга неопушкинистов нашего времени (Лацис, Дружников, Петраков, Козаровецкий и др.), Альфред Барков, философ, аналитик, литературовед, рассматривает пушкинскую мистификацию вокруг «Евгения Онегина» и предлагает прочтение произведения, альтернативное традиционному.О наличии в романе большого количества противоречий и парадоксов написано немало.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.