Место действия. Публичность и ритуал в пространстве постсоветского города - [3]
В 1990-е был короткий период, когда в Петербурге осмелевшая публика вдруг стала усаживаться прямо на траву повсюду, вплоть до сквера у Казанского собора, выходящего на Невский проспект. Довольно скоро строгость распорядка там была восстановлена. Сегодня, как показывает практика, сесть с пивом на траву где-нибудь в Летнем саду тоже чревато разговором с полицией и составлением протокола. Можно объяснить это тем обстоятельством, что Летний сад имеет статус музея, тогда как Марсово поле из мемориального кладбища, актуального для государственной идеологии, превратилось в обычный сквер, где посередине стоит просто «какой-то памятник». Никакой сакральности и связанных с ней ограничений тут больше не просматривается.
Развернутые скамейки подтверждают сказанное. Разве в СССР гражданам разрешалось двигать и поворачивать парковые скамейки как им заблагорассудится, «будто у себя дома»? Ничуть: расстановка скамеек и урн была заботой и привилегией администрации, и простые законопослушные граждане в это дело не вмешивались. Напрашивается любопытная аналогия с наблюдениями антрополога Эдварда Холла, исследовавшего культурно-специфичные паттерны использования пространства, в частности в интерьере жилища и офиса. В отличие от американцев, предпочитающих легкую мебель, которую можно по желанию подвинуть удобнее, немцы скорее выберут более массивную мебель, что отражает стремление к контролю над установленным порядком: от посетителя не ожидают, что он станет двигать свой стул, чтобы устроиться поудобнее (Hall 1966: 137–138).
Обратим внимание на то, как фотографируются у памятника люди – как если бы памятника вообще не было рядом. Они не включают памятник в кадр, снимают только друг друга, не слишком заботясь о фоне. То есть ведут себя совсем не как туристы. Конечно, и среди туристов есть такие, кто ходит повсюду в наушниках, пишет эсэмэски и на то, что его окружает, внимания особо не обращает; но все-таки массовым способом туристического потребления оказывается фотографирование себя «на фоне». Эта практика признана прохожими и другими туристами как осмысленное и достойное занятие: люди обходят снимающихся, замедляют шаг или останавливаются, чтобы не попасть в кадр, соблюдают очередь, откликаются на просьбы незнакомцев «нажать на кнопочку».
Местным вроде бы нет смысла запечатлевать себя среди достопримечательностей, но и они не чужды фотографического зуда. Почему бы, например, не сфотографировать необычных и не навсегда поставленных в Александровском саду раскрашенных медведей, представляющих разные страны и в этом качестве вместе путешествующих по миру?Бюсты Лермонтова, Гоголя (и некоторые другие бюсты) взирают на происходящее со своих постаментов как на нечто преходящее, не имеющее, в отличие от них самих, отношения к вечным ценностям. Эти временные фигуры, однако, разделяют с новой генерацией «постоянных» памятников одно интересное свойство: они провоцируют зрителя совершить с ними какое-нибудь действие. Встать так или этак, за что-нибудь подержаться – и, конечно, сфотографироваться в оригинальной позе, где памятник и потребитель составляют некий ансамбль. Тем более что многие из этих фигур сознательно спроектированы так, чтобы с ними можно было взаимодействовать: статуя фотографа на Малой Садовой словно просит взять ее под руку, шемякинский Петр в Петропавловке гостеприимно подставил всем желающим свои колени. За последние два десятилетия на улицах, в парках и в новоустроенных пешеходных зонах постсоветских городов появилось довольно много подобной жанровой скульптуры. Традиционные памятники создавались с расчетом на визуальное впечатление, но не на интерактивность. Они стоят на высоком постаменте и несоизмеримы с масштабом человека, проходящего мимо. Залезть на обычный памятник – вандализм и хулиганство. Иногда статую, если постамент не слишком высок, можно потрогать, подержаться за какое-нибудь до блеска натертое место, но эта импровизация потребителя не входила в авторский замысел.
Новая городская скульптура зачастую намеренно создает такие возможности взаимодействия. Слово «возможности» здесь употреблено в терминологическом смысле, близком к тому, как это понятие трактуется в дизайне. Оно восходит к психологу Джеймсу Гибсону, адепту экологического подхода к восприятию и, опосредованно, к гештальтпсихологии. В свете этих подходов окружающий мир в восприятии всегда осмыслен и значим, что выражается в тех возможностях, которые он открывает воспринимающему индивиду. Гибсон цитирует Курта Коффку: «Каждая вещь говорит, что она собой представляет <…>, фрукт говорит: „Съешь меня“; вода говорит: „Выпей меня“; женщина говорит: „Люби меня“» (Гибсон 1988: 204). За этим вот выступом можно спрятаться, на эту поверхность – сесть. Шемякинский Петр словно нашептывает гуляющему: «Сядь ко мне на коленки и попроси нас щелкнуть» – он, подобно любому другому объекту, открывает возможности для физического взаимодействия с собой.

В этой статье мы попытаемся сформулировать некоторые соображения о технике анализа устноисторического интервью и проиллюстрировать эти соображения конкретным примером. Предполагается, что результатом анализа должно быть некое новое знание по сравнению с тем, что уже высказано информантом в интервью. Соответственно пересказ того, что сказал информант (или несколько информантов), хотя бы с элементами обобщения и даже с использованием научной терминологии, не может быть признан сам по себе результатом анализа — по крайней мере, того типа анализа, который имеется в виду ниже.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
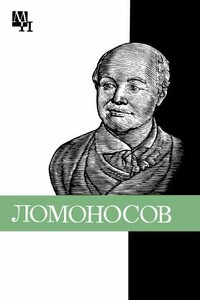
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.