Мераб Мамардашвили: топология мысли - [80]
Для этого автор постоянно и долго, насколько хватает сил и жизни, занимается тем, что срезает наносные психологизмы, иллюзии о самом себе, срезает разного рода конструкции, искусственные наслоения и построения по поводу себя и мира, срезает разные фикции о самом себе, стремясь докопаться до яйности, до Я, которое на самом деле реально. Только такое отделение себя от самого себя в «некоей заданной чувствилищной рамке» даёт шанс открыть то пространство реальности, в которой я действительно реален, а не реактивен.
Рис. Жизнь и Автор в третьем измерении
Что получается? Родился человек. Встал, пошёл, пришёл, уехал, приехал, какие-то хлопоты и заботы, женился, работал, развёлся, снова работал, ушёл с работы, снова женился, пошли дети, затем дети разъехались… Кто-то привыкает к такой жизни, к маленьким радостям, повседневным хлопотам, считая, что это и есть жизнь, она так устроена, именно устроена, задолго до нас, и будет после нас, и так до скончания века… В этой устроенности человек пребывает, как-то проживает. Хотя что-то его гложет, чего-то ему не хватает, наедине с собой он признаётся, что эта «тоска медленно текущей жизни» (А. П. Чехов)[128] его хватает за горло и душит, душит, душит…
И тогда он как-то пытается осмыслить то, что с ним происходит. Пишет дневники, письма, в них изливая на чистый лист свою горечь. Кто-то пытается уехать, сменить чисто географически свою точку пребывания. Хотя… Уехав, однажды, в каком-нибудь гостиничном номере, наедине с собой он начинает понимать, что здесь то же самое, даже хуже. И тогда он берёт пистолет или верёвку и… Другой же просто спивается. А третий начинает писать. И письмо становится очистительным зеркалом, помогающим увидеть себя в себе, человек как-то выстраивает некий конструкт и образ, выдавливая из своей жизни с их помощью куски и эпизоды жизни, переплавляя их в новые гибридные формы.
Но что помогает ему делать эту работу по переплавке? Из какой точки зрения он на них смотрит, каким способом он переосмысляет свои куски и эпизоды жизни? Один остановится на этом и будет увлечённо писать мемуары. Другой же уносится далеко за горизонт, пытаясь забыть эту беспросветную жизнь. Третий здесь-и-теперь пытается проделать над собой какую-то странную очистительную работу, медленную, для внешнего наблюдателя тягостную и бесконечную, пытаясь занять некое третье измерение, находясь во всегда настоящем. Не пиша мемуары, не уводя свою мысль в прошлое, и не увлекаясь «грезами духовидца», а пытаясь вновь обрести утраченное время, не вернуть прошлое, прошлого нет, а найти, обрести себя самого. Здесь и начинается собственно автор, тот, кто выделывает в себе себя, отсекая всё лишнее, наносное, долго и больно, выдавливая из себя всякую нечисть и гниль, сильно рискуя открыть то, что самое тяжелое: что его-то самого ещё не было, и он ничто. Но если он проделывает такую очистительную работу/заботу, то лик автора постепенно начинает проявляться. Такая работа продолжается и после его физического ухода. Благодарный читатель-собеседник продолжает его лепить. И с каждым поколением этот лик играет всё новыми красками. Потому что нет, как говорил Чехов, «ни низших, ни высших, ни средних нравственностей, а есть только одна», та, которая «дала во время όно Иисуса Христа», которая «мешает красть, оскорблять, лгать и проч.» [Кузичева 2012: 394].
Смысл и остранение
Срезание собственной повседневной гнили и дряни становится методом, способом работы. А. П. Чехов замечал, что искусство писать – это искусство вычеркивать, предполагающее вырезание всего лишнего в словах, всего этого толстовства, наносного, не нужного морализаторства, что застит глаз. Остаётся чистая лаконичная форма, простая ясная фраза. Как и у В. Т. Шаламова: «Фраза должна быть короткой и звонкой, как пощечина!». Поэтому романы у Чехова не получались. Он писал рассказы, повести, пьесы. Наиболее точными оказались последние. В них представлена прямая речь героев от первого лица. А между словами и фразами – паузы, говорящие больше, чем сами фразы. Время срезает наносное и не нужное, как срезает тот каблук долгое хождение.
О. Мандельштам
Чем лаконичнее и объёмнее фраза, тем более она провоцирует на разнообразные интерпретации, толкования, комментарии, потому что смысл кроется в паузе, между словами, там, где хранится воздух смысла. Смысл всегда не завершен, он бесконечен, а сама вариативность смысла есть способ его существования, замечает М. К. [ПТП 2014: 553].
Эти пустоты между словами, хранящиеся в паузах, контекстах, прячущие смысл, наполняют произведение воздухом, создавая ему объём, открытый для понимания. И мы, получающие к нему доступ, вкладываем в этот воздух свои образы, даже если они ошибочны с точки зрения автора. Встреча толкований и образов прочтения в месте произведения уравнивает разных читателей, «уравнивает разницу путей», путей испытаний. Произведение автора написано на каком-то иностранном языке, замечает М. Пруст, но будучи открытым и наполненным воздух, оно позволяет дышать им и делать ошибки при вдохе и выдохе, как их делает путник, споткнувшийся о корягу или камень. Но чтобы споткнуться, надо для начала встать и пойти. Не идущий не спотыкается. Но ошибки при встрече другого образа дают энергию для продления и дальнейшей жизни произведения:
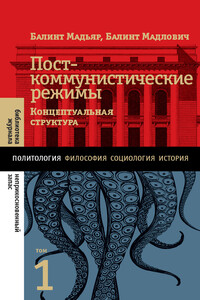
После распада Советского Союза страны бывшего социалистического лагеря вступили в новую историческую эпоху. Эйфория от краха тоталитарных режимов побудила исследователей 1990-х годов описывать будущую траекторию развития этих стран в терминах либеральной демократии, но вскоре выяснилось, что политическая реальность не оправдала всеобщих надежд на ускоренную демократизацию региона. Ситуация транзита породила режимы, которые невозможно однозначно категоризировать с помощью традиционного либерального дискурса.

Серия «Фигуры Философии» – это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности. Книги серии – способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве. Неподражаемый Славой Жижек устраивает читателю захватывающее путешествие по Событию – одному из центральных концептов современной философии. Эта книга Жижека, как и всегда, полна всевозможных культурных отсылок, в том числе к современному кинематографу, пестрит фирменными анекдотами на грани – или за гранью – приличия, погружена в историко-философский конекст и – при всей легкости изложения – глубока и проницательна.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
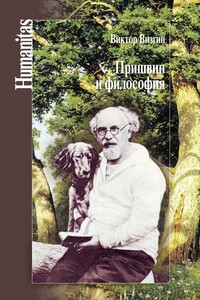
Книга о философском потенциале творчества Пришвина, в основе которого – его дневники, создавалась по-пришвински, то есть отчасти в жанре дневника с характерной для него фрагментарной афористической прозой. Этот материал дополнен историко-философскими исследованиями темы. Автора особенно заинтересовало миропонимание Пришвина, достигшего полноты творческой силы как мыслителя. Поэтому в центре его внимания – поздние дневники Пришвина. Книга эта не обычное академическое литературоведческое исследование и даже не историко-философское применительно к истории литературы.

Василий Васильевич Розанов (1856-1919), самый парадоксальный, бездонный и неожиданный русский мыслитель и литератор. Он широко известен как писатель, автор статей о судьбах России, о крупнейших русских философах, деятелях культуры. В настоящем сборнике представлены наиболее значительные его работы о Ф. Достоевском, К. Леонтьеве, Вл. Соловьеве, Н. Бердяеве, П. Флоренском и других русских мыслителях, их религиозно-философских, социальных и эстетических воззрениях.

Перед вами первая книга на русском языке, специально посвященная теме научно-философского осмысления терроризма смертников — одной из загадочных форм современного экстремизма. На основе аналитического обзора ключевых социологических и политологических теорий, сложившихся на Западе, и критики западной научной методологии предлагаются новые пути осмысления этого феномена (в контексте радикального ислама), в котором обнаруживаются некоторые метафизические и социокультурные причины цивилизационного порядка.

Энди Мерифилд вдыхает новую жизнь в марксистскую теорию. Книга представляет марксизм, выходящий за рамки дебатов о классе, роли государства и диктатуре пролетариата. Избегая формалистской критики, Мерифилд выступает за пересмотр марксизма и его потенциала, применяя к марксистскому мышлению ранее неисследованные подходы. Это позволяет открыть новые – жизненно важные – пути развития политического активизма и дебатов. Читателю открывается марксизм XXI века, который впечатляет новыми возможностями для политической деятельности.