Мераб Мамардашвили: топология мысли [заметки]
1
Здесь и далее в квадратных скобках указываются фамилия автора, год издания, страницы.
2
Здесь и далее, дабы не упоминать всуе слишком часто фамилию автора, в квадратных скобках так будет называться этот курс лекций.
3
Однажды в своих дневниковых записях М. К. Мамардашвили заметил, что «Самопознание» Н. А. Бердяева на самом деле вовсе не самопознание. Некая самохарактеристика, блестящая, критическая, что угодно, но не самопознание [Мамардашвили 1996: 208].
4
Вполне осознанно так понимал свой метод и платоновский Сократ, гонявшийся в своих диалогах за понятиями, используя метафоры охоты (см. диалог «Софист»). См. также о поисковом методе в античной философии [Вольф 2012]. Правда здесь речь идёт об эпистемологическом поиске.
5
Концептуально-теоретический, доктринальный метод (шире – парадигма) предполагает построение задним числом определённого концепта, знаниевого конструкта исследуемого объекта, создание эпистемы по поводу собственного предмета исследования, в котором (конструкте) предмет в итоге гаснет, умирает. Как гаснет в знаке-тексте живая речь. Поисково-номадический, или навигационный, метод предполагает отслеживание метода-пути самого предмета и его собственного становления-метаморфоза. В этом следовании слова и термины суть только указатели и векторы движения, но никак не определители, фиксирующие ставший предмет (см. подр. о навигационной парадигме в антропологии [Смирнов 2016а]). Такое различение важно нам именно в связи со спецификой предмета – с выстраиваем метода философского автобиографирования, к которому применимы именно ориентировочно-навигационные и поисково-номадические практики и инструменты, нежели объектно-эпистемологические, концептуально-терминологические способы, поскольку жизнь живой личности не опредéливается и не фиксируется. Она может быть понята лишь в горизонте пути как опыта испытания.
6
Такое утверждение будет конечно излишне искусственным. Скажем мягче. С некоторых пор в борьбе двух линий, условно, Платона и Аристотеля, в базовой практике философствования победила вторая, аристотелевская, предполагавшая (см. предыдущую сноску) создание теоретических концептов-конструктов, в которых главным было ухватывание сущности мира, поскольку главным занятием философа полагалось создание учения о сущем. Иная, платоновская линия, предполагала скорее поиск, пробу, упражнение в сути происходящего. В этом методе был важнее сам метод поиска и сам автор, нежели стремление уловить истину мира (cм. также [Адо 2005]).
7
Здесь и далее, дабы не склонять без конца фамилию дорогого мне собеседника, позволю себе называть его кратко – М. К. Ведь относились же к Щедровицкому – Г. П. Так он и остался в памяти. М. К. Мамардашвили остался в памяти по имени – «Мераб». Но не гоже нам склонять по имени того, кто старше и мудрее нас во всех смыслах. Язык не поворачивается.
8
По ходу нашего движения мы будем приводить также следы живой речи других авторов, включая и самого Пруста, в разное время выступавших в качестве собеседников М. К. В самом тексте эти высказывания выделены во вставленных в основной текст рамках. По ходу изложения читатель будет встречать эти рамочные высказывания, идя по параллельному тексту в тексте. Роман Пруста мы по сложившейся традиции будем приводить в сокращении: ОВ («Обретенное время»); СВ («В сторону Свана»); Гер («У Германтов»); Пл («Пленница»); Бег («Беглянка»); СБ («Против Сент-Бёва»).
9
Правда, в этом путешествии души к себе можно свалиться в дендизм, если превращать свою личную жизнь в произведение искусства (см. Адо о Фуко: [Адо 2005]). Об этом М. К. вообще не говорит, хотя понимает прекрасно. О М. Фуко он ни разу не упоминает. Как будто его и нет. Равно как не вспоминает и М. М. Бахтина. Впрочем, это тоже можно объяснить его собственным признанием: он понял феноменологию не из книг Э. Гуссерля, а из собственного опыта. Феноменологию пути он выстраивал не из книг Э. Гуссерля. Феноменологию события он осмыслял не из книг М. Бахтина. В черновике, названном им «Авторское», М. К. помечает: «Здесь бессмысленно говорить о влияниях или заимствованиях» [ПТП 2014: 1041]. Кстати, здесь есть момент личной биографии. Черные кирпичи Сочинений Бахтина стали выходить с 1996 года (том 5). Но «Автор и герой…» уже вышел в ЭСТ в 1979 году, а «Философия поступка» в 1986. Э. Гуссерля М. К. мог прочитать и на немецком. Лекции Фуко о практиках себя состоялись в 1981–1982 учебном году. Но они оказались доступными на французском лишь в 2001. Правда, «Забота о себе» была опубликована в 1984. У книг тоже есть своя биография.
10
М. К. называет примеры таких романов воспитания – роман Пруста, «Поминки по Финнегану» Д. Джойса, «Человек без свойств» Р. Музиля. М. К. замечает: текст Пруста есть путешествие души, и «Божественная комедия» Данте – одна из первых великих записей внутреннего путешествия души [ПТП 2014: 15].
11
Опять поразительное совпадение с Фуко, который вёл речь о создании, конструировании субъектом истины посредством практик себя [Фуко 2007].
12
Признаем также иронично понижающее философа отношение М. К. к пророчествам Хайдеггера: «Это языческая, Богом не тронутая душа… У него дальтонизм на феномен личности. А без последнего разговор о свободе берет фальшивую ноту» [Мамардашвили 1996: 189].
13
См. подр. [Смирнов 2015в].
14
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель; АСТ. 2004. Т. 1. С. 298
15
Удивительный пример-метафору шлифовки мысли-зрения показал Б. Спиноза. Он оттачивал свою мысль в своей «Этике», а также он точил линзы у себя в доме, пытаясь как-то заработать на жизнь, заболев после этого туберкулезом. Его старый станок по оттачиванию линз сохранился и стоит в его доме в г. Рейнсбург. Туда можно приехать и посмотреть на него. А мысль-событие как след, был смыт водой утраченного времени.
16
М. К. ссылается на место из переписки М. Пруста, для которого эта тема была одной из сквозных. Её тот повторял в разных местах. Также она есть в очерках «Против Сент-Бёва»: «Трудитесь, пока есть свет» [Пруст 2018: 52].
17
Думаю, это произошло из-за вынужденного и, пожалуй, неизбежного компромисса, на который он был вынужден пойти. В конце жизни М. М. Бахтин признается С. Г. Бочарову: «<…> какое все это имеет значение – авторство, имя? Все, что было создано за эти полвека на этой безблагодатной почве под этим несвободным небом, все в той или иной степени порочно» [Бочаров 2010, с. 50]. И добавляет: «Я ведь там оторвал форму от главного. Прямо не мог говорить о главных вопросах <…>. Философских, о том, чем мучился Достоевский всю жизнь, – существованием Божиим. Мне ведь там приходилось все время вилять – туда и обратно. Приходилось за руку себя держать. Только мысль пошла – и надо ее останавливать <…> это все литературоведение <…>. Это все в имманентном кругу литературоведения, а должен быть выход к мирам иным. Нет, в высшем совете рассмотрено это «слово» не будет. Там это не прочитают» [Бочаров 2010: 50-51]. Впрочем, и литературоведение с точки зрения последовательного критика Бахтина, М. Л. Гаспарова, было у философа весьма другим, нестрогим и вольным [Гаспаров 1979; 2004]. Гаспаров укоряет Бахтина в том, что тот выступал больше как философ в работе над Достоевским, чем как филолог. Гаспаров не приемлет базовых понятий Бахтина, диалог и полифония, применительно к тексту романа Достоевского, поскольку те не вполне годны для литературного анализа текста (см. также комментарий [Эмерсон 2006]). Гаспаров признаёт, что Бахтин крупный философ, мыслитель, но слишком вольный, если не сказать слабый, филолог-исследователь, поскольку позволил себе вольности и допущения. Гаспаров не приемлет того, что автор и его герой могут общаться диалогически. Оправдание Бахтина задним числом со стороны К. Эмерсон много лет спустя всё же выглядит излишне литературным [Эмерсон 2006]. Впрочем, многое в версии Гаспарова объясняет то, что, судя по всему, он не читал «Философию поступка» (что объяснимо самой историей публикаций работ Бахтина). Это отмечает и О. Седакова [Седакова 1992].
18
Опыт вглядывания в себя как в того, кто ты есть на самом деле, преодолевая страх и трепет, откровенно показал С. Киркегор. Силу вглядывания даёт человеку религиозный опыт. На него же опирался и Бахтин, ссылавшийся на покаянную молитву 50-го Псалома для обоснования онтологии диалога Я и Ты, чего не мог увидеть Гаспаров: «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня» (Пс 50, 14). С самоотчета-исповеди начинается поступок, через него человек утверждает себя, онтологически не будучи самодостаточным и нуждающимся в Ты [Бахтин 2003: 205-212]. Вообще-то с исповеди начинается и любая честная автобиография. В противном случае она быстро сворачивается в некий холодный нарратив.
19
См.: «<…> мое намерение состоит не в том, чтобы научить методу, которому каждый должен следовать, чтобы верно направлять свой разум, а только в том, чтобы показать, каким образом старался я направить свой собственный разум» [Декарт 1989: 252].
20
Не будет лишним упоминание опыта мысли Бахтина, для которого смысловое целое героя заключалось не в том, чтобы построить орган видения, а в том, чтобы начать проделывать опыт поступающего покаяния, самоотчета-исповеди, который герой проделывает предельно откровенно, вплоть до самоуничтожения того самого Я, мнящего себя в центре мира. Эта тема совершенно отсутствует в дискурсе М. К. Допустим даже большее: опыт Пруста больше похож на дендизм М. Фуко, воспринимавшего жизнь автора-героя в практиках заботы как эстетическое произведение, на что критически указывал П. Адо. В практиках себя у Фуко, как полагал Адо, было утеряно представление о Целом, о космосе, во имя постижения которого стоики и проделывали свои упражнения [Адо 2005: 299-308]. Феномен жизни как искусства на примере жизни русских дворян, декабристов, описал и Ю. М. Лотман (восстание декабристов как театральное действие, дуэль как эстетический жест и проч.) [Лотман 1996: 180-201].
21
М. Хайдеггер также выделял смысл логоса через этимон глагола legare, собирание.
22
Это любимая тема М. К. – тема органа понимания. Он также любил ссылаться на случай Галилея, который посредством телескопа и математических расчётов выстроил себе орган мышления, посредством которого можно было увидеть то, что не видимо – что Земля вертится. У эмпирических индивидов такого органа нет, его надо было построить в культуре [Мамардашвили 1992: 306-307]. Этот надо было выстроить, сконструировать по принципу legare, дабы увидеть и показать – вот, смотрите! Впрочем, Галилей показывал это тем, которые этого как раз не могли увидеть, у них ведь не был выстроен этот орган мышления-видения. Они смотрели на мир иными глазами, то есть, органами другой культуры.
23
Кроме такого занятия, как снятие иллюзий, А. Арто в своём «театре жестокости» имел в виду и необходимость практики «чувственного атлетизма», которой должен был заниматься актёр, насилуя своё тело, ища и обретая в теле опоры для выражения образа героя, дабы слепить из собственного телесного и чувственного материала иной образ. Эта лепка – весьма тяжелое, чреватое насилием занятие, требует жестокости по отношению к самому себе, слабому, балованному и закрепощенному чужими образами (см. [Арто 2000]). Что-то похожее делает и философ, занимаясь «философским атлетизмом», лепя и строя свою мысль, занимаясь духовными упражнениями (см. [Адо 2005; Смирнов 2002]).
24
Поэт становится сам «указателем», знаком бытия, его органом, совершая поэтическое высказывание, идя к истоку, производя и повторяя исток. И тогда собственно некое изделие (технэ) и становится произведением искусства, поскольку производит через себя и собой онтологический исток. Техника есть вид раскрытия потаённости. Событие произведения происходит лишь постольку, поскольку потаённое переходит в непотаённое [Хайдеггер 1993а: 224-225].
25
Распятие непризнанного Бога, самозванца, объяснимо для Пилата, для которого идеалом Бога был Юпитер, воплощавшийся в идеальном человеческом теле согласно античным идеалам красоты и совершенства. Но иудеи ждали Другого, который уязвлён и ущербен, в нём «нет ни вида, ни величия» согласно пророчеству Исайи. Пророки предрекали Его пришествие, его казнь, и то, что он будет предан за 30 сребреников, и что казнят Его вместе с преступниками и будет он отвергнут самими иудеями. Но распяли его за Слово, а не за то, что он не был похож внешне на античного Бога или Бога Яхве (который вообще-то был не представим).
26
См. об этом в его выступлении «Феноменология – сопутствующий момент всякой философии» [Мамардашвили 1992: 100-107].
27
Впрочем, современная социально ориентированная эпистемология уже подвергла критике принцип аккумуляции знаний. Событийный опыт не аккумулируется. Научные парадигмы отличаются друг от друга не суммами знаний, а разными правилами игры, они не соизмеримы по отношению друг к другу в связи с разными принятыми у них нормами. Поэтому рядом с методологически и концептуально выверенным подходом, то есть эпистемологией, в методологии науки предлагается, например, герменевтический (см., напр., [Рорти 1997]).
28
Тогда в 1984 году это не выглядело банальным.
29
И. Ф. Бэлза в своё время написал об этом замечательную работу «Генеалогия Мастера и Маргариты». Она была откровением для интеллектуалов тогда, в 1978 году (см. [Бэлза 1978]).
30
Это отдельная большая тема формирования «умного тела», неорганического тела личности, мы её обсуждали в других наших работах (см. [Смирнов 2015а]). На простых примерах понятно, что наличие самого по себе органа (глаза, уха, руки) вовсе не означает его сформированности. Умеющий уши, да слышит…
31
Как не знал и Сталкер того, как будет реагировать Зона на его действия. Потому он совершал пробные действия, кидая гайки с белым бинтом, и после этого делая робкий шаг.
32
В истории культуры описаны разные архетипичные мифы навигации: Гильгамеш, Эдип, Одиссей и др. При всём внешнем отличии можно различить навигацию в мифе (где она строится по законам Пути и Мирового Древа (см. [Топоров 2010], здесь путь предначертан и проторен), навигацию в религиозной практике (через молитвенные практики поиска личного Бога, здесь Бог, Другой, уже есть, к нему предстоит идти), и практики философско-поисковые (антропопрактики заботы, при которых путь не проторен).
33
Ухватыванию феномена времени как акта, момента, посвящено множество работ по феноменологии, многие их которых, впрочем, грешат тем, что субстантивируют время и отделяют его от сущего, от человека, от автора акта видения, присваивая времени свойства некоего объекта, существующего вне меня. Это следствие гордыни феноменологов, в том числе Гуссерля, пытавшихся строить феноменологию как строгую науку.
34
См. [Адо 2005; Смирнов 2016; Хоружий 1998; Фуко 2007 и др.].
35
М. К. не видит возможности проводить различение между художественным и философским актом. Добавим, и религиозным. Точнее, можно говорить о религиозных, философских и художественных практиках в рамках культурных (духовных) антропопрактик развития и формирования органона личности. Но с точки зрения конституирования личности все они по факту осуществляются как органический сплав, амальгама, энергия которой входит как в губку в органику личности. Последняя впитывает энергию и отдает её, снова впитывает и отдаёт, оседая в тексте произведения [Смирнов 2014].
36
См. подр. о мифологеме Мирового Древа и Пути [Топоров 1992; 2010; Элиаде 1994].
37
В записных книжках М. К. есть размышления об экзистенциальной иронии креста – креста идолопоклонников, по-своему использующих пример Христа и понимающих его уже в своём кривом зеркале «чужого сознания», в котором образ твоего Я извращается в глазах тысяч чужих я, чужих голосов и сознаний. Потому Сократ прятался за шутовством и иронией (в отличие от серьёзности софистов), а Киркегор прятал своё Я за псевдонимами. И рождается многотысячеголовая гидра чужих зеркал, крест чужого суесловия, на котором тебя же и распнут. Не дай Бог такому случиться! [ПТП 2014: 1051].
38
Курс «Логики» И. Кант читал в Кёнигсбергском университете долгое время – с 1755 по 1796 г.г. И все эти годы вносил правки в свои рукописи. Можно сказать, что изданная посмертно «Логика» является не столько авторским изданием, сколько конструктом, построенным его учениками по следам учителя. М. К. «читал» свою «Топологию», на которую мы ссылаемся, больше года – с марта 1984 по май 1985 г. Но с магнитофонных лент звучит голос автора, который невозможно реконструировать. Его надо слышать и ему внимать. Быть в присутствии акта мысли.
39
Редактор данного курса 1984–1985 г.г., по следам которого мы идём, Е. М. Мамардашвили, рассказала о технических и других трудностях, с которыми она, её коллеги и друзья столкнулись при расшифровке записей. Но главным для них было стремление сохранить обаяние стиля, тембр голоса автора, его интонацию.
40
Человек, будучи всегда не завершённым сущим, всякий раз испытывает соблазн эстетизации собственного незавершённого образа. Что он и делает в своей автобиографии, стремясь искусственно замазать, доделать какие части не прожитой жизни: «Автор биографии <…> может стать двойником-самозванцем, если дать ему волю и потерпеть неудачу, но зато можно непосредственно-наивно, бурно и радостно прожить жизнь (правда <…> одержимая жизнь может стать роковою жизнью)» [Бахтин 2003: 217].
41
Кстати, уже И. Кант задолго до М. Шелера, искавшего метафизическое место человека в космосе, разводил место человека как тела среди тел (вещь среди вещей), которое предуготовлено и предзадано, и место его души, которое не определяется как тело в натуральном мире. Кант признавал, что задача определения места «органа души», будучи задачей метафизической, является явно неразрешимой и внутренне противоречивой [Кант 1980: 624]: душа воспринимает самое себя посредством внутреннего чувства, которое понимает то, что человек испытывает, а тело – посредством внешних чувств. Механическое разведение внешнего и внутреннего чувства у великого немца не должно нас смущать. Здесь сказано главное: событие души как акт сознания сугубо рефлексивно, и обосновывает себя душа как самое себя сугубо рефлексивным актом. И только таким актом она делает себя действительной. Если иную вещь можно фиксировать извне актом сознания и описания, то акт души можно фиксировать сугубо собственным опытом испытания, осознанным волением, делая её тем самым событием присутствия. Даже если этот наш пассаж относится лишь к нашей интерпретации Канта, но на неё натолкнул нас он сам. И тем самым мы понимаем нечто большее, нежели банальное и уже привычное признание того, что душа (равно как и сознание) не имеет никакого локального места ни в какой части тела (о чём ратовали механицисты и натуралисты всех времён). В эту же сторону шла и мысль Шелера, который место человека в космосе понимал сугубо рефлексивно-действенно, как точку-место встречи жизненного порыва, тяги (Drang) и духа (Geist). Место человека, будучи местом метафизическим, формуется актами идеации, духовными центрами [Шелер 1994], (см. подр. [Смирнов 2016]). Про энергийную тягу как исток поэзиса писал и О. Мандельштам в «Разговоре о Данте».
42
А. Ф. Лосев в статье «Диалектика творческого акта», на которую редко кто ссылается, пытался в неоплатоническом ключе объяснить феномен творческого акта, заключающегося в том, что он производит себя сам из самого себя. Последнее Лосев называет «самодовлеющей предметностью» (произведение есть то, что «само о себе свидетельствует») [Лосев 1982]. Правда, неоплатонизм Лосева мешает ему увидеть в акте автора. Хотя с точки зрения понимания нами природы событийности смысл сказанного как ни странно близок к тому, что говорит М. К. Б. Д. Эльконин добавляет. Дело ведь в том, что как только акт свершился, то и сама ситуация, в которой производился акт, также изменилась и изменился сам автор, субъект акта-действия [Эльконин 1994: 119]. В этом тайна и смысл событийности этого акта: в том, что действие само переживает метаморфоз и, осуществляясь, оно само меняет и ситуацию, в которой родилось, и носителя действия. А вот В. В. Давыдов, будучи учеником Э. В. Ильенкова и последователем Л. С. Выготского, больше довлел к структурно-конструктивистскому подходу и пытался уловить деятельностную структуру в мыслительном акте. Это ему во многом удалось, что позволило перевести теорию в практику развивающего обучения, поскольку в практике обучения как раз важно пошаговое формирование мышления через построение структуры совместного обучающего действия.
43
Эта готовность понимается также метафизически. Лаэрт, пошедший на поединок с Гамлетом, не готов. Он всего-навсего мстит обидчику за смерть отца. Гамлет же готов в поступке: «Быть готовым – вот все, Гамлет готов. Не решился, а готов; не решимость, а готовность… Он готов: пусть будет – Let be!» [Выготский 1986: 453]. Выготский признает, что именно эту метафизическую готовность нельзя, невозможно комментировать, как-то объяснять. Её приходится просто принять.
44
Хотя, разумеется, иногда у него это получается. И мы имеем прецеденты философской прозы у Ф. А. Степуна или С. Н. Булгакова.
45
Я пытался это как-то описать в своём не всегда удачном и робком опыте автопоэзиса, что собственно и составляет существо антропологии стиха, то есть произведения [Смирнов 2011; 2015а].
46
Пока заметим на полях, что, например, в лингвистике давно введено понятие «языковой личности». Но понятий философская личность или поэтическая личность нет. Ю. Н. Тынянов оперировал поисковой метафорой «литературной личности», «авторской личности», живущей в сознании читателя как образ, конструкт [Тынянов 1977]. В. В. Виноградов ввёл идею языковой личности. Много позже Г. И. Богин определял языковую личность как носителя языка, способного совершать речевые поступки и произведения речи [Богин 1984]. Ю. Н. Караулов определяет её как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание им речевых произведений (текстов)» [Караулов 2004: 35]. Философскую же личность можно определить как субъекта, осуществляющего акты мышления о пределах. Ж. Делёз и Ф. Гваттари писали, что философ производит концепты. Концепт не дискурсивен, «автореферентен, будучи творим, он одновременно сам полагает и себя, и свой объект», «это событие, а не сущность и не вещь» [Делёз. Гваттари 1998: 32-34]. В общем, мы неминуемо попадаем снова в базовую тему – чем же занимается философ? Конкретно и предметно? Не вообще, а именно по действию – что он делает? Без разговоров и пафоса о миссии, а именно с точки зрения производства – что он производит? Что он делает? Поэт производит стихи. А что производит философ?
47
И снова слышится голос М. М. Бахтина.
48
Великий символ опять напоминает нам о жизни-бодрствовании: апостолы заснули в Гефсиманском Саду, в то время, когда Он молился о чаше. А потому они и разбежались, бросили учителя. Когда Он молился, они спали.
49
Это один из лейтмотивов мысли М. К. В черновых записях по Декарту М. К. записал так: «Вся философия Декарта может быть резюмирована следующим образом: Мир (1) всегда нов (в нем ничего не случилось), (2) в нем всегда есть для меня место, и (3) если забуду (или умрет, машинится) то, что только от меня самого, то нет и не будет в нем сущностей (истин, чисел, добра, красоты, вообще упорядоченных и “высших” объектов), – Бог невинен (и не предшествует мне во времени)!» [Встреча с Декартом 1996: 387]. Заметим, это резюме М. К. относительно всего Декарта. Фактически то же самое он резюмирует и относительно всего Пруста. А точнее, это максима уже самого М. К.
50
В своих «Философических письмах» П. Я. Чаадаев проделал определённый декартов опыт на основе принципа cogito – опыт пересоздания себя, говорящий о том, что нам всем надо самих себя переначать, и «этой внутренней работе надо все приносить в жертву, применительно к ней надо установить весь порядок вашей жизни. Но все это должно протекать в сердечном молчании» [Чаадаев 1989: 38]. См. подр. в нашей работе о философской аскезе П. Я. Чаадаева [Смирнов 2015].
51
Иногда литературная и философская мистификация собственной биографии бывает интересным интеллектуальным упражнением, как это получилось у А. М. Пятигорского в «Философии одного переулка». Но это тоже пример сознательного ухода и отказа от себя самого, по причине признания, что рассказать о себе, тем более рассказать биографию собственной мысли невозможно. В этом сам Пятигорский и признавался [Пятигорский 2011]. А потому автор сознательно прячется за собственной мистификацией по поводу себя самого.
52
Такое действие Б. Д. Эльконин называет пробно-поисковым [Эльконин 2010].
53
Буквально такое же определение, только применительно к детям, слепоглухонемым воспитанникам интерната, давал Э. В. Ильенков, обосновывая свою работу с ними в интернате в Загорске: этот слепоглухонемой ребенок от рождения кусок мяса, и вот его предстоит сделать человеком [Ильенков 1991: 30-43; 108-114 и др.].
54
Диастанкурами («диалектическими станковистами») называли себя иронично основатели московского логического (далее – методологического) кружка – А. А. Зиновьев, Г. П. Щедровицкий, Б. А. Грушин, М. К. Мамардашвили. Это ироничное самоназвание обыгрывало художников соцарта у Ильфа и Петрова, и как знак, обозначало отстранение себя от всякого диаматовского и истматовского официоза, как позже вспоминал сам М. К. [Мамардашвили 1991]. Предложил его, как полагает М. К., Зиновьев, известный хохмач, придумщик и спорщик, на спор взявший на себя обязательство проработать «Капитал» К. Маркса. Вперемешку с водкой он это сделал. Диастанкуры знали «Капитал» лучше и глубже, нежели официальные академики-философы, прорабатывая на его материале саму Логику мысли Маркса. Совершенно в духе и в слове топографии души М. К. так и вспоминает, обозначая их тогдашнюю позицию: «Это было восстанием, во всяком случае я его так осознавал, и так мне кажется по сей день, – восстанием против всех внешних смыслов и оправданий жизни; [было] философией жизни как внутренне неотчуждаемым достоинством личности, самого факта, что ты – живой, поскольку жизнь не есть нечто само собой разумеющееся, продолжающееся, а есть усилие воли» [Мамардашвили 1991].
55
Рассеянием этого взрыва стала вся послевоенная отечественная философия. А. А. Зиновьев, Э. В. Ильенков, Г. П. Щедровицкий, М. К. Мамардашвили составили её ядро и поставили ей высшую планку, задав целый ряд направлений для дальнейших исследований. Остальные были уже после и равнялись на них.
56
Сугубо мировоззренчески эти молодые ребята тогда закладывали свою позицию, которую и держали всю жизнь – позицию человека принципов, которая и держит человека, что позволяет ему сохраниться, не быть уничтоженным: «уцелеть может только принципиальный человек <…> это стало для нас аксиомой жизни <…> я уцелел и могу продолжать жить только потому, что ни разу не изменил себе и не начинал колебаться <…> а беспринципность моментально ведёт к уничтожению <…> к уничтожению личности» [Хромченко 2004: 37-38].
57
Пожалуй, базовыми линиями расхождения М. К. и Г. П. и было то, что Г. П. допускал возможность построить теорию мышления (и он её строил в виде СМД-методологии). И по этому поводу Г. П. организовал движение коллективного мыследействия, в том числе в виде ОДИ. И то, и другое было категорически не приемлемо для М. К., полагающего себя одиноким мыслителем. Две разных парадигмы: мыслить возможно лишь одному и мыслить можно только коллективно. В первом случае мы имеем дело с мыслью как актом-событием, во втором случае мы имеем дело с мышлением как мыследеятельностной субстанцией. Удивительно, но оба примера оказались реальностью, воплотившись в конкретных биографиях, потому мы имеем возможность исследовать два случая, два прецедента, два феномена – М. К. и Г. П.
58
Напр., модель лабиринта заложена в мифе о Минотавре, которого побеждает герой Тезей с помощью любви Ариадны и волшебного средства, клубка нитей. Но после победы герой предает свою любовь. Мост, переход, переправа означали переход границы и кратчайший путь, а лабиринт означал скитание, блуждание по кругу, хождение по мукам. Сюжет победы над чудищем, сидящим глубоко и далеко в лабиринте, затем прочно вошёл в литературно-поэтическую традицию, в которой описывается борьба человека со своим подвалом, подпольем, в котором сидит его тёмный двойник, которого он сам в минуты страха подкармливает, спускаясь в свой подвал. См. подр. о лабиринте как модели сознания [Стародубцева 1999]. У. Эко ввёл представление о разных моделях лабиринта как моделях культуры. Это лабиринт классический, выходящий из первого мифа (в его основе – лабиринт Минотавра в виде кольцеобразного движения вглубь, в центр, и возвращение из него); это зáмковый лабиринт, сад блужданий эпохи Возрождения, предполагающий возможность ходить по разным закоулкам и ответвлениям, но в саду есть всё же вход и выход; и лабиринт-ризома, сеть, где нет центра и периферии, начала и конца, входа и выхода. Фактически это некая постмодернистская матрица, в которой человек блуждает, в ней сама идея Пути окончательно исчезает, утрачивая культурный смысл [Эко 2016: 53-56]. Заметим, что все три типа лабиринта предполагают главное: прохождение человека-путника по линиям лабиринтов. Но если первые два предполагают наличие колеи, коридоров, траекторий, которые уже начертаны, но герою осталось только по ним пройти, то в сети-ризоме путник сам вычерчивает свою траекторию, для которой не заданы лекала и колеи. В ризоме «думать» означает «следовать вслепую, наощупь» [Эко 2016: 55]. Добавим, что к идее лабиринта У. Эко приходит в контексте раскрытия старой мифологемы Пути, воплотившейся в идее «энциклопедии», то есть движения по кругу знаний, о чём свидетельствует культурный этимон (обучение по полному кругу – ἐνκύκλιος παιδεία).
59
Название этого раннего текста молодого Выготского звучит символично: «Аводúм хоúну» («рабами были мы»).
60
И в этом опыте испытания важнейшим для Арто была работа над телом. Актер думает телом, даже сердцем. Он лепит из своего телесного материала своего Двойника и выводит его на сцену, точнее, прямо находясь в нём. Зритель видит актера на сцене, его тело, но новое, вылепленное, преобразованное [Арто 2000: 220-222]
61
Особенно точно и остро это понимают смертельно больные люди. Когда болезнь вдруг подступает (разумеется, вдруг, внезапно), и человеку сообщают, что он смертельно болен, то тут он остаётся точно один на один с собой и никто ему не поможет, только он сам. И либо человек сваливается во все тяжкие, лихорадочно сжигая остаток дней, либо проживает их достойно. В этом опыте болезни главным собеседником становится такой же, другой, переживающий свой опыт болезни. В этой связи они находят друг друга.
62
См. также [Смирнов 2011].
63
Поэзис для Хайдеггера является важнейшим опытом восстановления онтологического истока, правда, в явно выраженном неоязыческом изводе. Сквозь толщу христианства поэт обращается к зову праязыка, пытаясь вновь поименовать богов. И этой практике поэзиса личностное начало у Хайдеггера звучит слабо. Поэт отдаётся зову и становится фактически орудием в руках богов, точнее, выступает сакральной жертвой. Праксис поэзиса становится ритуалом жертвоприношения. А потому идеи личностной навигации в онтологии Хайдеггера увидеть трудно, несмотря на то, что Хайдеггер периода «Holzwege» («Неторных троп») близок к этому. Кстати, большой очерк «Нужны ли поэты?» был им опубликован в том же сборнике, в «Неторных тропах» 1950 года [Хайдеггер 2017].
64
Замечу на полях, что именно это и утверждал в своё время Г. П. Щедровицкий, когда высказывался в таком духе: «В мире нет ничего, кроме мышления и действия». Когда я услышал это впервые в 1985-м году на его лекции, у меня перехватило дыхание. Как это? Ничего нет? А звёзды? А другие миры? Надо понимать двусмысленность и радикальность этого выражения. С одной стороны, он имеет в виду то, что мыследеятельность есть субстанция, которая «садится» на человека, человек в ней пребывает, потому что мыслит мышление, а не человек. Но с другой стороны, человек ещё должен стать таким органом мышления, чтобы смочь выдержать этот груз и этот глас мышления, идущий, рыкающий через него. Поэтому, полагал Л. С. Выготский, мыслит всё же человек, а не мышление. Но какой? Преображённый. Так что Щедровицкий, не любивший понятие личности, всячески его отвергавший, тем не менее контрабандой протаскивает его через сам факт своей личной биографии: ГП и стал таким органом мышления, то есть собственно мыслящей личностью, то есть, «вещью мыслящей».
65
Кстати, У. Эко, пытавшийся разобраться в поэтиках Д. Джойса, признаёт, что роман «Финнеганов помин» ничего не описывает и не показывает. Он сам есть особая реальность. С. Беккет ему вторит: «Финнеганов помин» не повествует о чём-то. Он сам является чем-то» [Эко 2003: 403]. Чем же? «Безличной конструкцией, которая становится объективным коррелятивом некоего личного опыта» [Эко 2003: 403]? Или полигоном разных поэтик и игр языка, на котором (полигоне) проверяются на прочность границы этого языкового универсума [Эко 2003: 429 и др.]? У. Эко, показывая виртуозность и энциклопедизм исследователя, не подобрал к нему ключик. Наверное, потому, что подходил к роману как к объекту, к банке, которую надо вскрыть стальным ножом холодного анализа. М. К. подошёл к роману Пруста как к своему собственному изделию, которое не вскрывается, а создаётся, и в нём живут. Другой автор, С. С. Хоружий, предложил своего Д. Джойса, «Улисса» в русском зеркале» [Хоружий 2015]. Об этом нам предстоит ещё отдельный разговор.
66
Речь идёт об «умной вещи». Леонардо полагал, что посредством живописи, создания им совершенного произведения мысль обретает совершенную форму: «Я создаю вещь, своим присутствием воплощающую в себе материальный опыт обращения человека к небу – cosa mentale человека».
67
Удивительно, но у В. Т. Шаламова есть рассказ «Марсель Пруст». Варлам Тихонович рассказывает, как у него, работавшего фельдшером при лагере, украли не что-нибудь, а роман Пруста – «У Германтов» (он называет его «Германт»). Удивительное дело, замечает Шаламов: жёны, наивные существа, шлют мужьям на зону не шарфы, носки или свитера и брюки, а брюки гольф, особый табак и не что-нибудь, а роман Пруста, весьма редкое издание по тем временам. Чтобы было что почитать в лагере. М-да! В 30-е годы Пруст был переведён на русский лишь частично. И вот именно роман Пруста, присланный его знакомому фельдшеру, Шаламов читал там, в лагере, открыв его для себя: «Кто будет читать эту странную прозу, почти невесомую, как бы готовую к полету в космос, где сдвинуты, смещены все масштабы, где нет большого и малого? Перед памятью, как и перед смертью – все равны, и право автора запомнить платье прислуги и забыть драгоценность госпожи. Горизонты словесного искусства раздвинуты этим романом необычайно. Я, колымчанин, зэка, был перенесен в давно утраченный мир, в иные привычки, забытые, ненужные. <…> Я был подавлен «Германтом». С «Германта», с четвертого тома, началось мое знакомство с Прустом» [Шаламов 1992: 128-129].
68
И. П. Сиротинская вспоминала, когда впервые прочитала рассказ «Тифозный карантин»: «Тифозный карантин» вызвал просто боль, пронзительную боль в сердце. Казалось, что-то нужно сделать сейчас же, неотложно. Иначе жить, иначе думать. Подломились какие-то основы, опоры души, привыкшей верить в справедливость, конечную справедливость мира: что добро восторжествует, а зло будет наказано» [Сиротинская 1996: 448].
69
Достаточно холодное, почти равнодушное отношение М. К. к наследию Э. Гуссерля мне не совсем понятно. Да и мало в его текстах примеров того, что он как-то с ним беседует. Р. Декарт и И. Кант, не говоря о Прусте, для него постоянные собеседники. Можно увидеть, как он к ним относится. В то же время мы знаем ведь, что вообще-то феноменология для Гуссерля была не просто учением и нормой для построения строгой науки, но и уставом для личной жизни в монастыре в миру, способом его интеллектуальной аскезы. Феноменология выстраивалась Гуссерлем как система принципов, на которых строится способ мышления, как требования для мыслителя. Как для поэта существует требование, что писать стихи плохо нельзя, оно выступает императивом, так и для философа требование, что мыслить не строго нельзя, даже преступно, выступает необходимым условием самого осуществления акта мысли. А эпохé, на котором строилась редукция, выступала базовым условием этой строгости.
70
М. К. ссылается на замечательный пассаж из Пруста про то, что он не ценит дружбу, потому что мы за неё прячемся, боимся рисковать, боимся чувствовать сами от себя [ПТП 2014: 288] (Гер: 400-401).
71
Например, я получал неизъяснимое удовольствие, просто наслаждение, когда видел, как мыслил в моём присутствии Г. П. Щедровицкий. Я от его энергии заряжался и был готов свернуть горы.
72
Кстати, думаю, что театр абсурда, в целом искусство абсурда и весь экзистенциализм с его «тошнотой» и потерей смысла в ХХ веке потому и стал популярен, поскольку такая вполне реальная ситуация несоразмерности (нечеловекомерности) мира и индивида, рождающая абсурд и страх, ранее у классиков преодолевалась сходным с Леонардо, Прустом, Хайдеггером и Бахтиным образом – через создание произведения (творения), вбирающего в себя концентрат мира, человек обретал онтологическую опору. А когда в ХХ веке само искусство перестало выполнять эту работу, перестало быть таковой опорой (о чём ностальгировал Хайдеггер, поскольку человек перестал «жительствовать в мире как поэт»), то и стал побеждать абсурд. А в жизни каждой индивидуальной биографии эта задача построения онтологической опоры встаёт во весь рост и каждый поэт сугубо индивидуальными усилиями пытается её восстановить сугубо личностными усилиями.
73
Эту цифру называл А. В. Ахутин [Ахутин 2009].
74
Опубликованы воспоминания одной слушательницы с курса 1982 г.: «<…> я была студенткой философского факультета Тбилисского университета. … изучала «университетскую философию» <…>, как все, чувствовала себя потерянной <…> Я не могла найти себя <…> Первое мое впечатление от лекций Мераба Константиновича – глубокий шок. От творил, философствуя, перед моими глазами. На его лекции, как и другие мои сверстники, я ходила как в Храм <…>» [Мамардашвили 1994: 235].
75
Известно разведение А. А. Пузыреем психопрактик на две парадигмальные схемы – схему загадки-разгадки и схему тайны, которые он приводит на примере раннего и позднего Л. С. Выготского [Пузырей 1997]. На материале Гамлета ранний Выготский обсуждал тайну человека, а поздний Выготский уже пытался разгадать человека, вскрыть его как загадку, подобрать под него ключик. На этих схемах Пузырей строит и две стратегии – психологию майевтики и психологию манипулирования. Спорно. Особенно если записывать Выготского по этим двум ведомствам. Его записные книжки показывают, что такое деление не работает [Выготский 2017]. Но независимо от того, куда мы запишем Выготского, эти две онтологические схемы весьма плодотворны для понимания разницы двух стратегий отношения к человеку и двух психопрактик.
76
Букв. «священная рабá» (ίερόδουλη) от ίερός, святой, священный, и δούλη, рабá.
77
Поэт, философ и священнослужитель совершают, каждый своими средствами, тот самый обряд жертвоприношения, воспринимая свое действие как жертву, по логике которого (действия) поэт не ожидает за своё поэтическое высказывание никакой благодарности ни от кого. И тем более от Бога. Он вообще не ждёт. Он готов. В культуре это было заложено изначально. Так была устроена мифопоэтическая картина мира. Поэт выступает одновременно и жертвой, и героем, создающим этот мир, преодолевающим Хаос, совершающим космологическое действо силой Слова, кратчайшим путём между мыслью и делом (см. [Топоров 1982]).
78
«В защиту собственного дома» (лат.). Название речи Марка Туллия Цицерона. Имеется в виду защита своей профессиональной деятельности, своего пути и предназначения.
79
К. Голубович считает М. К. Мамардашвили крупнейшим русскофонным философом ХХ века: «… это первый и главный русскофонный философ двадцатого века, человек, мысливший на языке, то есть продумавший и предъявивший науку мыслить структурно в каждой отдельной точке русского языка <…>. Страницы Мамардашвили – это такие места, где все происходит прямо тут, в пространстве стола, воздуха нашей жизни, что собирается вокруг них. Именно тут собираются иные смыслы у прежних слов» [Голубович 2014: 1156]. Можно спорить. Место первого здесь занимал М. М. Бахтин. Но дело в рангах и рейтингах. Дело в прецеденте. Пожалуй, если брать не весь ХХ век, а послевоенное поколение, то он первый философ. Г. П. Щедровицкий всё же больше мыслитель, методолог, организатор. А. А. Зиновьев – больше логик, ставший социальным писателем-сатириком. О них мы поговорим в других очерках.
80
М. К. делает в своих дневниках заметку о Достоевском: «… душу-то свою он все-таки (как и Гоголь) рождал в слове-феномене, и ничего не понимал ни в этом мире, ни в своих созданиях – не понимал со стороны, в самоотчете, в системе рефлексии. Все получалось не так, как Д. мыслил в своем доктринальном и систематическом мышлении… задумал роман-описание – получился Мышкин… А потом Достоевский в саморефлексии (по законам снова своего же зазеркалья…) изображал понятое в конце, как задуманное в начале, и выводил обратным ходом, бежал назад, чтобы быстрее прибежать в точку впереди. И так раз за разом…» [Мамардашвили 1996: 193].
81
Известный факт приводит К. И. Чуковский в своих «Критических рассказах. Н. А. Некрасов, радеющий за простых людей, велел прибить гвозди на запятках своей кареты, дабы мальчишки не садились сзади и не смогли кататься. Веселый был барин! Говорят, что это сделал его кучер без ведома барина. Кто знает! Характерная цитата: «Поэт – и в то же время барышник. Поэт – и в то же время аферист. В стихах пролетарий, а на деле магнат. Зовет к героическим подвигам, а сам присваивает чужие имения!», приводит Чуковский народную молву, ходившую о Некрасове [Чуковский 1990: 46]. О пороках Достоевского и Толстого тоже известно. Впрочем, первый был более искренен и последователен, хотя, как заметил М. К., ему не хватило смертной жизни, чтобы выкорчевать из себя подпольного человека. Толстой же и этого не делал. Он не хотел на самом деле меняться, он хотел быть великим учителем, пророком. В его так называемых религиозных поисках был какой-то показушный садомазохизм (смотрите, как я себя истязаю, как я стараюсь и как я страдаю!). Также известно, как будущий псевдопророк, продолжатель толстовской линии в русской литературе, А. И. Солженицын сколотил себе бизнес на страшной трагедии ГУЛАГа. Точнее, на полуправде о ней, что давно, с самого начала, со времен публикации «Одного дня…» подметил В. Шаламов. Солженицын пытался с ним дружить. Не получилось. Шаламов увидел эту двойственность и назвал его «дельцом». Зато теперь один – великий классик, другого знают только специалисты и узкий круг почитателей. Понятно, почему: В. Т. Шаламов неудобен, но он-то как раз и пытался преодолеть эту толстовскую назидательную линию русской литературы, которая споткнулась о ХХ век: после Освенцима и ГУЛАГа так писать, как Лев Толстой, нельзя, мы получили крах жанра. Такое правило вывел В. Т. Шаламов [Шаламов 2009: 836-850]. Кто же с этим согласится?
82
Можно по-разному относиться к интеллектуальному наследию А. А. Зиновьева, хотя нужно признать, что его жизнь была подвигом. Но драма его личности состоит в том, что достаточно прочитать его собственные воспоминания, многочисленные интервью, воспоминания его друзей и недругов, опубликованные уже после его возвращения в СССР (равно как и воспоминания и интервью Солженицына), как вырисовывается образ мученика-миссионера, который знает, куда идти, куда стране плыть, что делать. И вот он своим интеллектуальным молотом бьёт по наковальне массового сознания, вербуя себе сторонников, явно рассчитывая на памятник себе. Общаться с такими мессиями было невозможно. Они не беседуют. Они поучают, зовут, призывают, не слыша никого вокруг. Об этом вспоминал и М. К., говоря о Зиновьеве: «он сочиняет себе биографию пост-фактум. Эта биография пишется на обложках его книг, и все это абсолютное вранье. Абсолютное. Это забавно» [Мамардашвили 1991]. И дело тут не в том, что надо быть скромным, что надо прислушиваться к мнению других. Дело в том, что такой человек перестаёт слушать себя, он сам себя перестаёт испытывать, он сам не выполняет названных выше принципов. Хотя… Такое ощущение, что подобные герои с самого начала думали и искренне верили, что они гениальны и им уготована роль мессий-мучеников. И они готовы потерпеть, зато потом им воздастся. А со временем, как замечает М. К. в человеке проступают «глубины личности», что и случилось с Зиновьевым: «<…> это были просто бесконечные монологи, и это не было общением, то есть там не было никакого обмена мыслями, потому что это совершенно параноидально замкнутая система, вообще не воспринимающая другого человека <…> появились элементы мании преследования, и самое главное, конечно, мегаломания. Мегаломания разрушает нормальные человеческие отношения; если человек стал мегаломаном (по-русски это ведь называется мания величия, да?), то это рушит, это деструктивная сила – если это маниакально, а это <было> маниакально» [Мамардашвили 1991]. Вдова гения, О. М. Зиновьева, конечно, с этой оценкой категорически не согласна и обвиняет М. К. в том, что тот сам сочиняет и очерняет образ великого мыслителя. Время рассудит. Но эмоция и какая-то сверхкомпенсация и обида в её воспоминаниях звучит явным образом [Зиновьева 2012]. М. К. так оценивал личность Зиновьева, его поведение, потому, что в нём работало зло, оно особенно ярко проявилось в его романах и полностью захватило его психику. И к этому М. К., разумеется, относился резко отрицательно. В настоящее время опубликованы и другие многочисленные материалы, есть воспоминания Г. П. Щедровицкого [Щедровицкий 2001], в которых Зиновьев представлен совсем в ином свете, воспоминания дочери Ильенкова (Е. Э. Иллеш), в которых представлена дружба и отношения Зиновьева и Ильенкова, в том числе с использованием документов. Об этом мы будем говорить подробно в другом месте.
83
Перекличка, замечу, вполне осознанная. В одном из интервью И. Бродский подтвердил это, согласившись с корреспондентом, заметившим, что у него в его текстах есть прямая перекличка с Прустом: «В конечном счете, каждый литератор стремится к одному и тому же: настигнуть или удержать утраченное или текущее Время» (в эссе о Цветаевой) [Бродский, 2005: 115; Бродский 1997: 60].
84
И. Бродский заметил: это потрясающее стихотворение, я могу говорить о нем часами [Бродский 2005: 551]. В другом месте: «Больше всего мне нравится Мандельштам 1931 года» [Бродский 2005: 593].
85
В другом месте Бродский замечает, что он всё более склоняется в своём творчестве к интонационному стиху, дольнику, дабы вообще становиться в стихе как можно более нейтральным в интонации, стремясь слиться с ритмом маятника [Бродский 2005: 124].
86
По версии М. К. с А.А. Зиновьевым как раз случилось обратное. Он воевал, сидел в окопах, выбегал из окопа с автоматом от пуза. И был ранен войной. Ранен на всю жизнь. И всю жизнь превратил в эту страшную войну со всеми, в войну за свое место, за признание, войну с властью, коллегами, оппонентами, критиками, читателями, писателями, философами. В этом аду трудно сохраниться живым, эта адова мука сжирает всю твою личность.
87
С этим связано отрицательное отношение самого И. Бродского и того же У. Х. Одена к жанру биографии и автобиографии. Такое отношение объясняется тем, что биографию повседневности, никак не объясняющей творчество, они противопоставляли биографии поэтической. Собственно автобиография поэта и заключается в рождении истока, в его поэтических творениях, в осмыслении тайны творения, чему и посвящена вся наша работа. Кстати, свою автобиографию И. Бродский написал дважды – поэтическую в своих творениях и рефлексивно-смысловую в своих интервью, коих дал в течение жизни аж 173 [Бродский 2005]. Подсчитал же кто-то!
88
Потом прошло время и вся Москва (особенно после Праги), и место работы (Институт философии) оставались для М. К. паршивым, затхлым местом. Он задыхался, хотел воздуха. Лекции о Декарте, Канте и Прусте были для него нечто вроде аппарата ИВЛ.
89
Понятно, что логика и смысл такого правила чрезмерности никакого отношения не имеет к лозунгу Льва Толстого о непротивлении злу насилием.
90
Л. Витгенштейн сам подкидывал много таких примеров, показывающих нахождение философа на границе между нормой и патологией, умом и безумием, жизнью и самоубийством.
91
См. также весьма точные характеристики философии Л. Витгенштейна [Козлова 1998].
92
Фактически это тема органопроекции, наращивания и формирования нового неорганического культурного тела личности, феномен которого, каждым по-разному, описан у П. А. Флоренского и Л. С. Выготского, далее этот феномен обсуждал Э. В. Ильенков на примере опыта работы со слепоглухонемыми детьми. Не будем подробно касаться этой темы. Заметим, что фактически М. К. на своём материале и другом языке обсуждает столбовую тему вообще развития и формирования культурного тела человека, его базовых качеств, «высших психических функций» – мышления, воли, памяти, посредством особой культурной практики – творения формы, создания произведения.
93
А потому Адам должен был вкусить запретный плод, и Бог должен был выгнать его и жену его Еву из рая. Потому что мы обязательно испытываем искушение не быть, а сразу иметь, не затрачивая усилий, по схеме сделки: ты вкуси – и станешь как бог. А потом мы стремимся вернуть утраченное состояние рая. Вкушение плода обязательно должно было состояться, потому что в состоянии взросления человек начинает думать не о мире в себе, а о себе в мире, выделяя в нём своё индивидуальное я, нарушая тем самым то, что заповедано – мир есть присутствие и ты в нём пребываешь как есть, и тебе сказано: храни этот мир и пребывай в нём.
94
Пожалуй, это одно из принципиальных отличий опыта М. К. и опыта ГП. Последний пытался строить мыслительные конструкты, отдаваясь законам субстанции мыследеятельности. Он в принципе был противником признания всякого личного феноменологического опыта. Его схема МД – чистейшей воды интеллектуальный кристалл, конструкт чистой рафинированной мысли. Но вбросив его в мир, он изменил его. Как в свое время произошло с трехчленной схемой З. Фрейда. В мире нет этой схемы. Но вбросив её мир, начав объяснять поведение людей с её помощью, используя её как объяснительный принцип, он начала менять этот мир, люди стали видеть мир другими глазами, глазами этой схемы. В этом плане не важно, какие схемы авторы выстраивают. Они их изобретают и начинают видеть мир глазами этих конструктов. В таком сугубо мыслительном плане опыт М. К., ГП и Фрейда ничем друг от друга не отличается.
95
В сущности, М. К. этим занимался всю жизнь, потому он и знает феноменологию без Э. Гуссерля. Он пытался предъявить этот феноменологический акт восстановления розы вот этой, реальной, конкретной, преодолевая фетишизм слов и вещей. Этому посвящены его многие работы – о превращённой форме, о феноменах сознания, лекции о Декарте и Прусте и т. д.
96
Хотя много позже разные исследователи, в том числе и его соавторы, умные и начитанные, будут рассказывать, что на самом деле М. К. показывал, подтверждал то, что было понято и осмыслено в мировой психологии и науке, у того автора, у этого автора (см., напр. [Зинченко 1996]). Так можно быстро скатиться в чтение М. К. как в иллюстрацию мировых научных достижений. Вот он сказал то, вот он подметил это, а вот у этого автора было также, а вот у них оказывается была перекличка идей, хотя они об этом даже и не знали. Таким способом происходит различное толкование разных авторов, причисленных к классикам. Например, исследователи ищут сходство и различие Л. Витгенштейна и М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна и Р. Музиля [Витгенштейн 1998]. И хотя Р. Музиль и Л. Витгенштейн ни разу не сослались друг на друга, не упомянули, оказывается, сколько сходства мы у них можем найти. Музиля или другого автора обсуждают с точки зрения того, что он сказал или не сказал, а не с точки зрея понимания живой формы его романа, того, как он устроен и как происходит работа понимания автором самого себя с помощью формы романа. Чтение того или иного автора, который на самом себе пытается совершить акт восстановления полноты присутствия, и превращение этого чтения в иллюстрацию каких-то (чьих-то) идей или в коллекцию чужих знаний и сравнивание этой коллекции с другими коллекциями – означает то, что мы тут же похороним автора, умертвим его, забыв, что он вообще-то пытался быть живым собеседником для нас. Но мы никаких усилий для того, чтобы самим стать живыми собеседниками, не прикладываем, а продолжаем накапливать коллекции чужих знаний, накалываем на иглу мертвых бабочек.
97
См.: σύμ-βολον – условный знак, примета, сигнал; знак, служивший доказательством заключённого союза между двумя семействами, государствами. Исходный этимон означал связку, шов, застежку. Здесь особая роль приставки (σύμ-). Она соединяет. В отличие от «диа» (διά), которая разъединяет (отсюда – диа-вол, сеющий смуту, раздор, рас-прю, раз-единение (διάβολος – клевещущий, клеветник, сеющий дурную молву, ложь). Также знак, означающий нечто большее, чем он сам. Эйфелева башня – символ Парижа. Желтая кофта Маяковского – символ футуризма.
98
Не претендуя на компетентное изложение духовной практики богообщения у Григория Паламы и иных исихастов, сошлюсь в этом деле на умных знатоков [Хоружий 1994]. Нам важно было услышать перекличку голосов разных собеседников.
99
Не лишним будет напомнить самим себе, что М. М. Бахтин вводил два верхних рамочных предела в своей онтологии человека – «Вещь» (мир и человек как вещь) и «Личность». Или у исихастов по С. С. Хоружему: «Личность есть «высший и совершенный градус» реальности и бытийности, истинная и полновесная реальность, которою стремится стать реальность ущербная, недостаточная. Личность – то, чем не является человек, чего он лишен, чего не достает ему – и что он хотел бы обрести, чем он хотел бы стать. Личность – истина и исполнение человека» [Хоружий 1994: 341]. Заметим, однако, что таковой может быть только Личность Иисуса Христа, как совершенный Образ, как сверхъестественная реальность (в отличие от неё страсти человеческие – противоестественны с точки зрения исихастов).
100
Излагаемое мною, как и всё ранее написанное, не означает, что я иду точь-в-точь по тексту М. К., я пытаюсь понимать в свою очередь смыслы М. К. Ведь это и моя работа на понимание и моя сборка своего сознания при встрече с миром М. К. В частности, в этом месте я бы мог заметить, что момент любви означает момент осознания онтологической нехватки в Другом, момент преодоления одиночества. И только в таком случае мы можем говорить о любви, а не о влечении, сиюминутном состоянии. Завтра состояние улетучится, и я опять буду одинок. У М. К., делающего широкие выводы на основе размышлений о чувствах М. Пруста и его героя Марселя, получилось этакое эфемерное описание любви. Так мне кажется.
101
Это одна из постоянных тем М. К. См. также [Смирнов 2016а; 2016б].
102
Современный автор Маяцкий, поклонник Ж. Деррида, пишущий тексты в манере своего кумира [Маяцкий 2019], задался тем же вопросом – о месте, из которого я думаю. На этот вопрос его позвал А. М. Пятигорский, проводивший философские симпозиумы на разные темы (в 2001 году была тема: «Место, из которого я думаю», Звартава, Латвия, 2001 год) [Маяцкий 2002: 26-46]. Вопрос хорош, вполне в духе Пятигорского, друга и собеседника М. К. И надо бы понять, как отвечать на этот вопрос. Но как на него отвечает Маяцкий? Кстати. Пятигорский ввел совершенно замечательные правила для этого философского симпозиума – бить палкой собеседников за отсутствие мысли [Пятигорский 2019].
103
На примере Ф. Ницше Ж. Деррида показывал рождение автобиографического письма – через появление авторской подписи под философским текстом. Долгое время философские тексты были как бы анонимны [Деррида 2012б].
104
М. К. приводит свидетельство одного слушателя, современника Гегеля. Он вспоминал своё ощущение на лекции Гегеля: «У меня было страшное ощущение, что с кафедры в лице Гегеля со мой беседовала смерть» [ПТП 2014: 483].
105
Ср. «Неторные тропы» у М. Хайдеггера.
106
Был такой спектакль в Новосибирском ТЮЗе в 70-е годы, «Чудо в 10 А». Там одну бедную учительницу школьники прозвали «Голгофа», потому что она публично признавалась в том, что каждый раз идёт на урок как на Голгофу, потому что никак не может понять настроений и желаний класса и каждый раз испытывает немыслимые страдания несчастного, неуместного человека.
107
Теофания возможна в ситуации абсолютной чистой веры, принятия Его, надеясь не на чудо, а на себя, то есть свою душевную работу/заботу. В противном случае суеверие застил глаз. И Бога в итоге можно и не узнать, как случилось со многими при встрече Христа («и к злодеям причислен»).
108
Это характерно вообще для любой богемы любого времени. Смотришь на сцену на какого-нибудь артиста. Вот он вихляет телом, гримасничает, может дойти до высот фиглярства, совершенно не вообразимого, выделывая разные коленца. Артист! – говорим мы в этот момент. А выйдет он со сцены – и мы видим, как ведёт он себя по жизни пустым пошляком.
109
Что позволяло Э. В. Ильенкову по-своему описывать личность человека как неорганическое тело, формируемое в многообразии социальных практик, в богатом репертуаре предметной деятельности, в силу чего возможно личностное развитие даже таких недоделанных с детства, как слепоглухонемых детей, что было у Э. В. Ильенкова апофеозом и манифестом, доказывающим правоту К. Маркса и Л. С. Выготского.
110
Фактически это и тема М. Хайдеггера, (der andere Anfang), которую акцентирует В. В. Бибихин в своей работе «Другое начало» [Бибихин 2003]. Эта тема немецким философом выделена в его второй главной работе – «Вклады в дело философии. От события» [Хайдеггер 2009].
111
Строго говоря, священное место не фиксировано. Место связано со священным действом. Там, где оно совершалось, там рождалось и место. Для чань-буддистов место бога вообще становится пустым. Даже дыркой в отхожем месте. Эта игра слов суть следствие оборотной стороны проблемы: место священного действия есть место очищения от скверны, преодоления себя падшего и ветхого. В отхожем месте также происходит очищение себя, сбрасывание из себя всяких отходов, результатов, ненужных и срамных.
112
Дополнительный признак слова и ещё одна функция – надзора, высматривания (σκοπός – наблюдатель, надсмотрщик, соглядатай, лазутчик). Можно смотреть, всматриваться, искать истину, цель, а можно и подсматривать, надзирать над чужой целью.
113
Кстати, был такой доклад у Ю. Хабермаса – «Философия как местоблюститель и интерпретатор» [Хабермас 1993]. Там, конечно, речь идёт о другом. Хабермас, как всегда, строил конструкции для доказательств элементарных вещей про то, какую роль играет философия для наук, она, мол, им указывает их место. И первым это сделал И. Кант. Но то, что философ выступает у него места блюстителем и его интерпретатором, объяснителем, осмысляющим его – такое случайное совпадение, наверное, неслучайно.
114
Например, так жизнеописание через событие понимал Ю. М. Лотман, полагавший, что биография начинается тогда, когда человек нарушил культурный код, правила игры. Человека за это преследуют, подвергают гонениям и наказанию. Тем самым он и получает биографию, ему её просто делают [Лотман 1987]. «Какую биографию делают нашему рыжему!», – говорила А. Ахматова о ссылке И. Бродского. И сам Ю.М. Лотман фактически сотворил свою биографию Н. М. Карамзина. Но литературоведу Ю.М. Лотману было позволительно понимать событие жизни как приключение, которое сначала замысливается в романе, затем реализуется, как это было у декабристов. Он не претендовал на построение проекта, связанного с преодолением метафизики.
115
К. Голубович приводит свои примеры метафор пути: «У Хайдеггера – лесная тропа, у Юнгера – передовая линия, у Ницше – горная тропа. У Деррида это – черта, многократно пересекающая землю, или хору, в актах смысловой разбивки». При этом метафора пути на родину берется из утопоса, из места, отсутствующего на карте. У М. К. таковым местом выступает городская мостовая, улица, площадь [Голубович 2014: 1205].
116
Такая же ситуация и с философскими произведениями. Трактаты и сочинения Гегеля, Канта, Фихте, неокантианцев, толстые и многостраничные, выстраивались как законченные Концепты. В ХХ веке начинает доминировать установка на создание небольших сочинений в форме эссе, очерков, дневников, заметок, отдельных статей, докладов. И каждое выглядит как отдельное высказывание.
117
Работа «Сáмое самό» [Лосев 2008], написанная в начале 30-х годов, но не опубликованная при жизни философа, входит в корпус его основных текстов и продолжает его «восьмикнижие». Специалисты полагают, что эта работа является итоговой в его корпусе текстов по диалектике.
118
Хотя в пределе с точки зрения самого экзистенциального усилия феноменология Лосева, Мамардашвили, Гуссерля или Хайдеггера совпадают. В пределе, то есть, в энергетике личностного усилия, в пассионарности гласа вопиющего, философа, стремящегося к тому, чтобы ему открылось смысловое строение мира, смысл бытия.
119
Специалисты полагают, что с психоанализом случилась та же история. До ХХ века мир не знал психоанализа. Триада З. Фрейда (Я-Оно-Сверх-Я) родилась сугубо в голове её автора, став объяснительным принципом поведения человека. Ни в какой реальности никакой такой триады нет. Но вот Автор вбросил психоанализ в мир, и мир изменился. И далее весь ХХ век психологи только и делали, что обращались к З. Фрейду, занимаясь его комментированием и переложениями.
120
Такое ощущение, что М. К. читал эту работу У. Эко. Она 1967 года. Перекличка даже терминологическая. Здесь итальянец-эрудит вводит различение закрытого и открытого произведения, употребляя те же слова, что и М. К. «Подлинная структура» открытого произведения у него не сводится к тексту, она находится как бы между текстом и читателем («потребителем») и другими произведениями, и выступает «моделью», объединяющей много разных произведений [Эко 2004: 14]. М. К. говорит, что роман Пруста и другие романы (открытые произведения) выступают частями одного большого произведения. В своей поэтике У. Эко полемизирует со структурализмом, как и Бахтин, и М. К., но по-своему: структурализм анализирует и описывает произведение как «кристалл», как «чистую означающую структуру», вне истории её истолкований. А Эко имеет ввиду включение произведения в контекст многочисленных толкований, в которых разные читатели становятся соавторами, творящими новые смыслы. Правда, позиция Бахтина была обоснована его философией поступка, а не литературоведческими изысками. И толкователь у него – поступающая личность, а у Эко он всего лишь свободный интерпретатор (соисполнитель) текста произведения.
121
См. подр.: [Выготский 1981; 1986; 1995; Завершнева 2015; Левин 2001; Смирнов 2016а; 2016в].
122
Поразительно то, что сейчас, читая опубликованные записные книжки Л. С. Выготского, мы просто видим скрытую перекличку его с М. К., даже терминологическую. Выготский использует такие определения, как реальная ситуация (практическое действие), ирреальная ситуация, говорит о «четвертом измерении» Курта Левина. Последнее означает промежуток – выход из поля реального действия, в котором человек встречает барьеры, в ирреальное, в план мысли, осмысления ситуации, и возвращение снова в реальное, но уже с планом действия [Выготский 2017: 465, 474]. Действие, преломлённое через призму мысли, превращается в другое действие, осмысленное, осознанное, и, следовательно, произвольное и свободное [Выготский 1981: 154]. А потому понятие (единица мышления) есть не просто знаковый конструкт, Oberbegriffe, а отношение, которое человек выстраивает между предметами, действиями и смыслами, между реальной и ирреальной ситуациями. Понять, помыслить – значит проделать связку, увязать, выстроить в действии связку реального и ирреального.
123
См. нашу работу [Зайков и др. 2016].
124
Хотя современные философы полагают, что это и есть его определение – человек в норме есть аутист, сосредоточенный в себе, и любые слова о нём ничего не значат, он живёт во своих сновидениях, любой дискурс о человеке ошибочен и не адекватен [Гиренок 2017].
125
Понимание этого феномена позволило Г. П. Щедровицкому ввести этот кентавр-концепт в свою СМД-методологию. А в основание его пятичленки (связки мышление-коммуникация-действие-понимание-рефлексия) лёг фактически рисунок Выготского о выходе из действия в мысль и обратно, который, впрочем, ГП не видел, ибо не мог читать его записных книжек. Но прочитав смысл его поисков в опубликованных работах, он всё понял [Выготский 2017: 465].
126
М. К., конечно, сильно редуцировал мировую психологию до её версии бихевиоризма и реактологии, не беря в расчёт ни Выготского, ни Юнга, ни Бинсвангера, ни Мэя и др. Понятно, почему, поскольку именно постулаты бихевиоризма наиболее популярны и характерны для массового обывателя, имеющего такие же представления о человеке, его поведении. Психоанализ для обывателя слишком изощрен, а культурно-историческая (вершинная) психология слишком возвышенна. А экзистенциальный анализ имеет дело с пограничными ситуациями, в которые массовый человек-обыватель старается не попадать, поскольку предпочитает не совершать ответственных поступков.
127
Заметим радикальное отличие от психоанализа, опирающегося также на детство и выводящего из него все формируемые в человеке фобии и комплексы. Но М. К. говорит не о фобиях и комплексах, а о животворной и формирующей силе этого чистого впечатления, переживаемого в детстве, в период, когда феномен явен, чист, не замутнён. А потому Христос говорил: «пустите детей и не препятствуйте им приходить к Мне, ибо таковых будет Царство Небесное» (Мф 19: 14). Обращение Христа к детству не даёт нам права заподозрить Его в пристрастии к психоанализу. Эффект Фрейда в том и состоял, что он монополизировал тему детства. Для многих, особенно его противников, обращение к детской памяти, стало чуть ли не дурным тоном. Кстати, далее в другом месте разговора М. К. замечает, что он, как и П. Валери, в отличие от Пруста, ничего не помнит из своего детства, и у него «полностью отсутствует память в прустовском смысле слова, то есть материал памяти» [ПТП 2014: 559].
128
Известно, что сам А. П. Чехов был долгие годы на литературной каторге (как и Ф.М. Достоевский), пиша по контрактам с издателями многочисленные рассказы и повести, будучи вынужден содержать большую семью родственников, помогая старшему брату Александру, пьянице и лентяю, помогая другим братьям и младшей сестре, помогая родителям, ведя хозяйство, будучи при этом смертельно больным, продолжая заниматься и врачебной практикой. Но его никак не устраивало такое положение вещей, ему хотелось заняться чем-то другим, настоящим, писать не по заказу, не по контракту, не с целью зарабатывания денег. По воспоминаниям И. Бунина, Чехов мечтал вслух: «Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот…» [Кузичева 2012: 841]. И только в конце жизни он освободился от кабалы. Он уже стал классиком, его знают и читают в Европе, но это всё не то. И вот появляется «Чайка», премьера которой закончилась провалом. И только за пять лет до смерти появляются «Три сестры». Одна жизнь, суетная, хлопотная, заканчивалась, начиналась новая, жизнь автора, нашедшего себя. Есть такое подозрение, что автор вообще находит себя уже после смерти, в иной жизни, когда земная суета уходит и начинается иное измерение… То самое, третье…
129
Известный приём остранения, введённый В. Б. Шкловским в литературу и позже Б. Брехтом в поэтику театра (назван им как «очуждение»). Приём заключался в том, чтобы освободить читателя и зрителя от «автоматизма восприятия», дабы не узнавать вещи, а как бы вновь их открывать, как новые. Видение мира в его новом свете, открывание глаза миру и вещам (а не узнавание) и есть задача искусства – в простом и известном увидеть то, что не виделось ранее [Шкловский 1983: 15]. Кстати, одна буква «н» была опечаткой в первом издании его работы. Но слово так и осталось с одной буквой. Существо дела заключалось в том, что для формалиста Шкловского оказывается важной была не сама готовая форма слова и не сам по себе приём («Искусство как прием»), а процесс создания формы: «искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно» [Шкловский 1983: 63]. Удивительно то, что тогда, в 1916 году, обдумывая свой метод, Шкловский фактически мыслил так же, исходя из проблемы утраты времени и жизни, поскольку мы живём всё более бессознательно, автоматизируя свою жизнь: «Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны» [Шкловский 1983: 15]. Потому искусство становится той формой, возвращающей нам нашу жизнь, за счёт особого приёма остранения. Но М. К. здесь добавляет – остранение как отстранение, отдаление, выход на особую позицию, чтобы увидеть не видимое.
130
Чем занимаются разного рода консультанты в психопрактике консультирования? Кажется, что они пытаются помочь клиенту, который пришёл к ним за помощью. Как они это делают? Они трактуют и интерпретируют разного рода якобы внутренние переживания своих клиентов, опираясь на самом деле на свои же, ранее заготовленные модели и проекции человека. Однажды я спросил одного такого психолога – похоже, Вы интерпретируете не переживания клиента, а свои собственные галлюцинации. Тот ответил сразу, не задумываясь: да, конечно, мы интерпретируем собственные галлюцинации. Но мы это делаем так правдоподобно, что клиент начинает верить, что речь идёт именно о нём. В итоге клиент уходит с консультации с посаженной в его голову галлюцинацией, иллюзией о самом себе.
131
Есть такая известная детская песенка. Какое богатое содержание мальчишек и девчонок! Как подумаешь, из какого хлама собран человек по жизни!
132
Заметим замечательную терминологию, редко встречающуюся у М. К. Прямо по М. Хайдеггеру. Её он употребляет, переводя с листа Рильке, что вполне объясняет такой словарь, поскольку Рильке был экзистенциальным поэтом и последователем С. Киркегора.
133
Известно, что свою вершинную психологию Л. С. Выготский строил именно как психологию высших состояний, осуществляющихся в предметном, внешнем по отношению к индивиду, действии, и потому психическое находится, точнее, формируется не внутри индивида, а вне его, в совместности с другими. Это было его великое открытие «неклассической психологии», суть которой заключается в признании того, что психическое находится вне индивида, что сгусток психической энергии, произведение, культурная форма сначала существуют вне отдельного индивида, и предназначено для освоения им в рамках его культурного развития, в актах мысли и действия (см., напр., замечания его ученика и соратника Д. Б. Эльконина [Эльконин 1989: 477-478]).
134
У Ф. Е. Василюка сходная метафора – «работа горя», дающая не в категориях траура и конца жизни, а в категориях плодотворной и необходимой душевной работы, шанс вывода человека из тупика смерти [Василюк 1984].
135
Это то, что описано много раз в культурно-исторической психологии – это тема опосредования и овладения человеком предметного действия и роли в этом взрослого-посредника.
136
Как и сам М. К. понял феноменологическую проблематику, не читая Э. Гуссерля.
137
К миру можно относиться как к вещи, исчерпывая и иссякая его своими познающими актами заинтересованного прагматического разума, стремящегося овладеть миром. А можно относиться как к личности, вопрошая к миру в присутствии Бога [Бахтин 1979а: 363; Бахтин 1996: 7].
138
Точно так же, почти такими же словами, задаёт принцип попадания в историю и давний друг и соратник М. К. – Г. П. Щедровицкий в своих автобиографических интервью «Я всегда был идеалистом» [Щедровицкий 2001]. У них были разные пути, но принципиально близкие по ценностям позиции.
139
И потому герои Достоевского – герои не воплощенные. Это мечтатели, идеологи. Человек Достоевского – не «человек жизни», а «субъект сознания и мечты». Вся жизнь его «сосредоточена в чистой функции осознания себя и мира» [Бахтин 1979б: 58-59]. А потому «овеществляющие, объектные, завершающие определения героев Достоевского не адекватны их сущности» [Бахтин 1979а: 317]. Человек Достоевского всегда стоит на пороге, в состоянии кризиса. Именно потому, что у человека нет суверенной территории, он весь и всегда на границе. Смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому и глазам другого. Человек из подполья всегда стоит у зеркала [Бахтин 1979а: 312-313, 317].
140
Добавим только, что Кант вообще-то принимал веру не конфессионального типа, не соборного, не собрания верующих, а лишь ту, предмет коей есть признание свободное, не определённое никакими объективными и внешними основаниями: «Лишь для меня самого может быть достоверна значимость и неизменность моей практической веры» [Кант 1980: 377]. Предмет веры не является предметом знания, он выступает базовым постулатом субъекта, пусть даже если у него нет доказательств истинности того или иного положения. Достаточным основанием для такого сугубо субъективного признания истинности выступает именно «моральное основание», причем, в тех случая, когда субъект «убежден в полной невозможности доказать противоположное» [Кант 1980: 374].
141
См. выше «Реорганизованное время. Событие Иосифа Бродского».
142
У М. К. периодически возникает тема «человека у зеркала» и тема Другого. Фактически в таком же залоге, как у Бахтина – в залоге темы двойника, темы чужого у зеркала, «чужого сознания», «чужого голоса». У М. К. видение себя в зеркале выступает метафорой бреда интерпретаций: нужно перестать себя видеть постоянно в зеркале, то есть свой образ, разумеется, всегда придуманный и не реальный. Надо начинать видеть себя реальным, не в зеркале, как есть.
143
См. давно известные работы Выготского и его коллег [Самухин и др. 1981].
144
В. Т. Шаламов вспоминал, что в ГУЛАГе самой стойкой группой оказались священники и всякие религиозники, сектанты. А быстрее всех разлагались партийные работники и военные [Шаламов 2009: 264]. У них не было духовной опоры.
145
В других работах я пытался как-то выстраивать и формировать репертуар антропопрактик заботы (а практика cogito относится, разумеется, к ним тоже), с опорой и ссылками на других умных авторов, знатоков своего дела (см. [Адо 2005; Фуко 2007; Погоняйло 2007; 2009; 2015]). Я полагал, что все же принцип cogito предполагает запуск рефлексивной работы и не доходит до опыта преображения. Там уже действуют иные практики конверсии, практики заботы – тот же автопоэзис. М. К. не выделяет принцип cogito в отдельную практику, а растягивает, удлиняет его по всей духовной вертикали преображения, делая его сквозным и всеохватным. Отметим, кстати, ещё раз (лишним не будет), что этот опыт мышления о преображении себя и обретении утраченного времени М. К. проделывал фактически параллельно, даже по календарю, тому опыту практик себя, который проделывал М. Фуко в Коллеж де Франс. Лекции Фуко состоялись в 1981–1982 учебном году. Лекции М. К. в Тбилисском университете состоялись сначала (первый курс) в 1982–1983 учебном году, потом в 1984-85 учебном году. Перекличка на расстоянии, не зная имен.
146
Герой – то в тебе, что ты бросаешь в жертву. Иеродула (ίερόδουλοι, «священный раб») выступала в древних обрядах жертвой ради ритуала возрождения. Фактически это жрицы, храмовые рабыни, занимавшиеся храмовой проституцией. Они отдавались путникам, посетителям храма. Это выжигание в себе ветхого, дрянного, мертвого начала радикально отличается от поверхностного выжигания на себе на своем теле татуировок, дабы обрести якобы новый образ. Поиск нового образа во внешнем облике в виде яркой одежды, экзотической прически, тату, внешне отличающих тебя от других и выделяющих тебя из серой толпы – классическая схема замены, ухода в имитацию, дабы избежать реальной смерти своей дряни.
147
Кстати, один из основателей ММК Б. А. Грушин, давний друг и соратник М. К., вспоминал, что Мераб, когда они впервые встретились в годы студенчества, уже казался слепленным из одного куска, готовым сплавом личности, и уже никогда более не менялся.
148
М. К. сослался на издание сочинений Платона на французском. В переводе на русский это звучит так: «философия хочет жить, а не записываться в книгах». В другом месте Платон говорит фактически о зряшности стараний написать, лучше бы сказать, но и сказать невозможно толком VII 341d-e [Платон 2007: 583].
149
В современной аналитической философии в настоящее время развиваются два подхода к истории философии: контекстуальный и апроприационистский (от глагола «appropriate», присваивать). Первый означает то, что к историческим философским текстам необходимо относиться со всем знанием темы, текстов, проблематики, ситуации возникновения, источников, всего того исторического контекста, в котором создавались тексты. В этом плане он вполне традиционный, классический. Второй подход, присваивающий, означает, что отношение к историческим философским текстам должно учитывать запросы и проблемы сегодняшнего дня, идеи прошлого следует «апроприировать, переводить на современный язык и встраивать в актуальные дискуссии» [Берестов и др. 2019: 10]. Но оба подхода все же означают сугубо конструктивистский способ отношения к прецедентам мысли авторов, живших физически ранее нас. Встраиваю я работы в сегодняшний контекст (и что это значит – сегодняшний?) или не встраиваю, я всё равно к нему отношусь как к объекту реконструкции, объекту исследования и понимаю свою работу как ученый, занимающийся исследованием. Для М. К. тексты Декарта, Канта, Пруста – не тексты ушедших ранее авторов, а прецеденты живой мысли, которые он через собственный акт проживания открывает себе. Это совсем не историко-философский подход, не научный, не исследовательский, не объектный. Хотя вопрос не праздный: где пребывала ранее осуществлённая и потом забытая мысль? И откуда М. К. знает, что он понимает Декарта именно так, как мыслил он сам, Декарт?
150
Одна слушательница, моя коллега, бывавшая на его лекциях, мне однажды рассказывала о своём впечатлении. На её вопрос-просьбу о том, как сложно ей его понимать, М. К. ответил довольно жёстко: он не нуждается в том, чтобы его понимали. Она долго ходила под этим впечатлением и так и не смогла понять, почему он так ответил. Как так? Почему это лектор не нуждается в том, чтобы его понимали слушатели? Наверное, ей так и не удалось попасть в то метафизическое пространство, куда её звал М. К. Встречи между ними не произошло.
151
Это право автора, теперь уже «Мамардашвили», рождающегося в актах мышления, так разводить, фиксировать разницу. Думаю, драма и соль творения как раз в том, чтобы увидеть всё же феномен рождения Автора в самом что ни на есть эмпирическом, грешном, даже дрянном индивиде. Вспомним наш разговор о Н. А. Некрасове. Для этого нам всё же придётся иметь дело и с ним тоже. М. К. этого делать не хочет. Зачем ему Бальзак, с его эротическими снами? Скучно, не интересно.
152
Напр., см. здесь: http://oralhistory.ru/
153
Кстати, Л. Витгенштейн писал, как думал, думал, как говорил, говорил, как жил. А жил и говорил он в жанре постоянного вызова и пощечины. Он сам попал в серьезное затруднение: если говорить о том, о чём нельзя говорить, то о том следует молчать. Но что делать в таком случае философу? Ведь он мыслит как раз то, о чём нельзя помыслить – возможного человека, ещё не существующее место, благо. Ведь «какое бы определение блага мы ни дали, всегда будет иметь место неправильное понимание, ибо то, что действительно имеют ввиду, выразить нельзя» (цит. [Кампиц 1998: 49]. И потому он уходит в афоризм и пишет так, как пишут поэты, формулируя мысль жесткими лаконичными высказываниями, которые сами в свою очередь трактовать однозначно и правильно невозможно. И потому он вынужден признать: «Я полагаю, <…> мое отношение к философии можно, собственно говоря, представить только с помощью поэтической фантазии» [Витгенштейн 1998: 118].
154
Кстати, эту родину, другую Россию, и имел ввиду Чаадаев в своих письмах. Он призывал к тому, что ещё настанет время, когда Россия обретёт себя, свою истинную историю. А пока она её не имеет. Он обращался к той неизвестной родине, обращался своей одинокой мыслью. Его, разумеется, объявили сумасшедшим, он был таким же утопистом. М. К. ссылается опять на него: Чаадаев называл свою философию «философией гробовщика», поскольку нам предстоит уничтожить, закопать неподлинную жизнь и наконец начать жить по-настоящему. Добавлю, что после публикации первого своего письма в 1836 г. Чаадаев вновь подтвердил свою позицию в «Апологии сумасшедшего»: «Не через родину, а чрез истину ведет путь на небо», но «мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения», до сих пор мы имеем лишь только «патриотические инстинкты», «до сего дня у нас почти не существовало серьезной умственной работы» [Чаадаев 1989: 140, 148, 153]. Такая вот апология сумасшедшего.
155
Эти минуты вдохновения, заметим, рождаются отнюдь не в героическом порыве, не в окопах, автор не находится на краю гибели, ничто его не призывает к подвигу и жертвенности. Вот как проходили дни Пушкина в Болдино в 1833 году, когда он и написал те самые стихи «Осень»: «Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду: ус да борода – молодцу похвала; выду на улицу, дядюшкой зовут. 2) Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трёх часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верьхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До девяти часов – читаю. Вот тебе мой день, и всё на одно лицо» (из письма жене от 30.10.1833 г.) [Пушкин 1986: 48]. Ну никакой мистики и никакой тайны. А где же вдохновение? И где там это странное существо, этот Автор, который себя творит через творение произведения? Вот он лежит на диване, ест гречневую кашу, пьет по утрам кофей, а между делом рождает божественные стихи. Можно подумать, что условием рождения стиха и есть лежание на диване. Эта сугубо внешне мещанская («я – русский мещанин»), даже обывательская жизнь, человека по имени Александр Пушкин вовсе не выступает условием рождения поэзии и автора с именем «Александр Пушкин». А то эдак мы все горазды. Вот я щас поеду в деревню, буду хорошо спать, пить по утрам кофей, косить траву, любоваться закатами, лежать на диване и ждать – и во мне будет пробуждаться поэзия, и вдохновение придет… Как же-с… Пришло-с… Кстати, по плодоносности эта осень 1833 года была сравнима только с другой, знаменитой Болдинской осенью 1830 года. А в ту осень был ещё и карантин – вокруг бушевала холера. Поэт был заперт в деревне. Чем не причина? Давайте всех поэтов и философов запрём на карантин и как все начнут писать! М-да. Но тогда осенью 1830 года он, будучи взаперти, получил благостную свободу и мог творить вдали от столичной суеты, «от назойливого любопытства посторонних людей, запутанных сердечных привязанностей, пустоты светских развлечений» [Лотман 2017: 175].
156
Но можно описать его в категориях принципов, правил, набора упражнений, основных понятий (собственного органона), как это пытались сделать в своё время стоики, И. Лойола, православные исихасты или С. С. Хоружий, реконструирующий опыт монашеской аскезы (см. [Адо 2005; Лойола 2006; Хоружий 1998]). М. К. не делает этого сознательно. В своё время Г. П. Щедровицкий признавался, что он не понимает Мамардашвили. У того, мол, очень сложные построения в жанре спекулятивной философии. Ему проще описать все на языке моделей и схем [Щедровицкий 1997: 593-594]. М. К. полагает, что это тоже все язык, вербальный жанр. А речь идёт о невербальном опыте, описать который в принципе невозможно ни на каком языке, будь то язык слов, схем, моделей, рисунков.
157
Кстати, искусствоведы знакомы с феноменом Леонардо. Его картины надо не рассматривать, а расшифровывать. Как приходится расшифровывать его дневники, записанные зеркальным письмом. Леонардо был амбидекстром.
158
И. Бродский практику так называемого художественного авангарда называл одним словом – дерьмо: «авангард в искусстве – это дерьмо на 90%» [Бродский 2005: 71]. Именно потому, что он демонстрирует полную деструкцию, деформацию образа, это «поэтика осколков и развалин», «пресекшегося дыхания» [Бродский 1992: 14].
159
Тема куклы и механического двойника человека развивалась в тему превращения человека в машину и наоборот – в тему очеловечивания куклы или камня. Но сначала человек в себе каменеет, а затем окаменевшая статуя оживает и приходит за тобой. И приходит у Пушкина каменный Командор за Дон Гуаном и жмёт ему руку. Пожатие каменной длани смертельно. Потому что герой еще до этого окаменел, предав любовь и дружбу. Тему скульптурного мифа у Пушкина подробно разбирает Р. Якобсон, а затем и Ю. М. Лотман, в категориях живое – мертвое, искусство и жизнь, человек и искусство и т. д. [Лотман 1988: 131-141]. Сальери «музыку разъял как труп», принеся человека и искусство в жертву идолу, превратив своё занятие музыкой в жреческое служение. Идея, образ, мысль каменеют. А камень восстает на человека. Если вдохновение превращается в жреческое действие, во имя которого всё приносится на алтарь, то тогда идея, образ становится абстрактной догмой, каменеет, мертвеет и превращается в орудие убийства. Вместо человека остаётся принцип. А мертвая старуха-графиня приходит к Германну и называет ему три карты…
160
Я показывал эти картинки своей дочке, когда она была еще маленькой, лет 5, когда сознание ребенка игровое, мифологическое, он живёт в сказке и детской игре. Она хохотала по поводу этих шляп и задниц. Но она могла сказать – кто это? У неё не были сформированы такие гештальты. Она в своём опыте не имела, разумеется, игры в домино или охоты. У психологов, кстати, есть такой простой опыт работы с установкой сознания. Представьте. В аудиторию входит ведущий, показывает присутствующим фото мужчины и просит описать портрет, легенду известного полярного летчика. Фамилию не называет. И слушатели начинают говорить о том, какое это мужественное лицо, волевой характер, герой, покоритель полярных широт и проч. Затем ведущий идёт в другую аудиторию, показывает это же фото и просит описать легенду преступника-рецидивиста. Присутствующие начинают писать легенду – какой тяжелый взгляд, тяжелая челюсть и проч. У меня был личный опыт другого близкого эксперимента. Один психолог попросила меня принять в нём участие. Я вхожу в класс одной московской гимназии. Психолог просит ребят (старший класс) описать легенду неизвестного им человека. Полчаса я сидел молча, а ребята смотрели на меня и описывали мою легенду. Что в итоге получилось? Я у них никак не фигурировал ни философом, ни профессором, ни преподавателем. У большинства я получился бизнесменом средней руки, был разведен, детей не имел. У каждого из нас – свой опыт. Глазами своего опыта мы начинаем видеть другого и фактически писать за него его биографию, которая никакого отношения к нему не имеет.
161
В этике оно получило название золотого правила нравственности. Хотя это название уже позднее, весьма оценочное. И оно гораздо более древнее, чем принцип этики Канта. Её формулировка уже дана в Евангелии: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лук. 6, 31). Это изречение Христа у Луки идёт вслед его изречению про ответ ударившему вас по щеке: Ударившему тебя по щеке подставь и другую…» (Лук. 6, 29). Эти два стиха идут рядом, говорят о смысле ответа на вызов. Его М. К. постоянно обсуждает. И в продолжение: «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад» (Лук. 6, 30). У Матфея так же: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12).
162
Такой выбраковкой человеческого материала (ужас!) фактически занимается массовая школа, построенная по модели дисциплинарной матрицы. Её целью является не создание ситуаций заботы о себе и духовного роста, а выстраивание всех под догму успеваемости. Не успел – плохой. Категория «успевающий» (значит, успешный) настолько стала привычной, хотя и является ублюдочной, что даже перестала замечаться. Она вошла в привычку. Школьник должен быть успевающим, а стало быть он тогда и будет успешным, хорошим, правильным, то есть человеком. Не успевающий, не успешный, коридорный, двоечник – это брак, шлак, его выбрасывают. Разумеется, оправдание выстраивается самое благое: ему же надо учиться, надо поступать дальше в вуз, это так важно, иначе он не получит профессии, он не состоится в этой жизни, ничего не поймет, это ему во благо. Значит. Он должен стараться успевать.
163
«Дело Хайдеггера» давно известно. Не будем его обсуждать в очередной раз. Удивительно другое – удивительно то, как видит сам М. Хайдеггер эту ситуацию, точнее, как он слепнет, будучи проницательным в других вещах. Какие аргументы он приводил в разговорах с К. Ясперсом, говоря о Гитлере? На реплику Ясперса «Как может такой необразованный человек, как Гитлер, править Германией?», он ответил: «Образование не имеет значения. Посмотрите только на его удивительные руки!» [Ясперс 1992: 142]. Мол, человек с такими (какими?) руками не может совершать злодеяний. Здесь в Хайдеггере философ как бы падает в обморок. Разум ему отказывает. Но выйдя из обморока, Хайдеггер что-то понял, встав на край бездны. Он на себе испытал обморок его любимого автора Киркегора. Ясперс не смог. Думаю, излишний академизм Ясперса не дал ему сил взглянуть в эту бездну.
164
Понятно, что М. К. ставил свои акценты и представил разговор В. Гейзенберга и М. Планка в своей версии, выделив тему зла, греха и покаяния. Удивительно то, что в пересказе этой истории самим физиком все было даже как-то более поверхностно. Такое впечатление, что великий физик в своих воспоминаниях не понимает всего ужаса и запредельности того, что происходило в Германии в те годы. Он просто думает о том, чтобы подать в отставку. Как будто речь идёт о несогласии с начальником, который ему не выплатил зарплату. А старый Планк ему и говорит (по его же словам, возможно, Планк отвечал несколько по-иному), что невозможно уже остановить эту лавину. Она движется и ещё много жизней будет уничтожено, и что Гитлер не отвечает за себя, он не управляет страной, им управляет собственная одержимость [Гейзенберг 1989: 269]. В общем два физика говорили как-то обреченно, будучи бессильными что-либо сделать. Максимум, что он мог сделать, это подавать петиции и прошения, в которых просил власти не увольнять и не преследовать евреев-ученых. Он понимал так свой долг – служить физике, несмотря ни на что, понимал именно так свою жертву, отказываясь от многочисленных приглашений работать в заграничных лабораториях. Наука выше жизни. Служение идолу застит глаза. В итоге Гейзенберг пошёл на сделку с дьяволом, оправдывая её своим служением науке, стремлением сохранить национальную физику. Он участвовал в проекте «урановая машина». Физик делал атомную бомбу нацистам (см. подр. [Уокер 1992]). Да, занимался чистой наукой. В науке он был великим и мудрым, обладателем Нобеля. А в ситуации страшного вызова оказался также ослепшим. Это не тот случай, когда надо осуждать или оправдывать философа или физика-ученого. Но тем не менее. Мы знаем, что каждый отвечал по-разному на этот вызов. Кстати, об этой проблематике автор биографического очерка о Гейзенберге в выше указанной книге А. В. Ахутин не сказал ни слова. Как будто и не было ничего.
165
В этом фактически состоит разница между П. Адо и М. Фуко. Первый – профессор, начитанный, знающий все про духовные упражнения у стоиков. Второй, не специалист, не так начитан, берёт материал из вторых рук, но испытывающий на себе опыт переначинания себя. Совсем не академичен и совсем не профессор.
166
Текст этой беседы записан Ф. Бурманом на латинском, по следам его разговора с Р. Декартом. Этот молодой картезианец, последователь Декарта, проштудировал сочинения философа, записал вопросы, приехал к нему, и между ними состоялась беседа. Поэтому текст не является текстом, написанным самим Декартом. А указанный вопрос возник как следствие из суждения, что бог есть причина не только актуальных, но и возможных вещей и сущностей. Следовательно, Бог может повелеть своей твари его ненавидеть, и таким образом учредить это в качестве блага? Декарт и отвечает: «Нет, ныне уже не может. Но мы не знаем, что он мог сделать это раньше». Декарт допускает эту возможность ранее. Но ныне такой возможности уже нет. Уже всё свершилось [Декарт 1994: 464].
167
Впервые опубликовано в виде отдельной статьи в журнале [Смирнов 2019б].
168
Что, собственно, является следствием разного рода событий – Хиросимы, Освенцима, ГУЛАГа и проч. историй, проверяющих базовую установку на разумность бытия человека.
169
Понимание и осмысление ситуации человека требует отдельного разговора. Ее можно описать как ситуацию «после Освенцима»: человек попал в ситуацию, в которой мыслить и действовать так же, как и до Освенцима, как будто ничего не случилось – нельзя. См. подр. о смене онтологических ориентиров в антропологии [Аванесов 2016; Смирнов 2016].
170
Разные версии ухода человека описаны в литературе [Построение 2016; Хоружий 2013]. Особенно сильное развитие данный тренд получил в связи с внедрением в повседневную жизнь так называемых «умных технологий», «умной техники», которой человек стал доверять (отдавать) разные функции и работы, ранее проделываемые им самим. Этому посвящено море литературы, в которой описаны тренды виртуализации, киборгизации, интернетизации, становлению нового технологического уклада, четвертой промышленной революции (напр., [Шваб 2016]). Оставим эту тему для других работ.
171
Многочисленные предикации рациональности, такие, как целесообразность, объяснимость, системность, предсказуемость, согласованность элементов и т. д. выступают не более, чем попытками самого субъекта задним числом объяснить собственные действия. Если же эти предикации он перестаёт применять по отношению к себе самому, то обессмысливается и весь этот список и применимость его к самому миру.
172
Заметим, что разумность и рациональность мира выступает именно как допущение самого исследователя, его установка. Само допущение таких постулатов полагалось как норма. Конкретизация установки на рациональность мира воплощалась в разных вариантах и постулатах. Например: 1) мир существует; 2) мир разумно упорядочен; 3) мир открыт рациональному познанию; 4) мир разумно упорядочен как целое (цит. по: [Петров 2012: 98]). Р. Рорти добавил, что на том и строилась классическая эпистемология: на допущении, что она может быть сконструирована потому, что допускалось наличие общих оснований, по поводу которых разные люди могут договориться. Иначе говоря, «доминирующее понятие эпистемологии заключается в том, что для того, чтобы быть рациональным, полностью человечным (! – С.С.) <…> нам нужно иметь способность найти согласие с другими людьми» [Рорти 1997: 234].
173
Собственно, понятие научной парадигмы у Т. Куна на этом и строилось: парадигма понимается им как предписание и образец для представителей того или иного научного сообщества [Кун 1975]. Учтём, однако, что все примеры предписаний, входящих в парадигмы науки, понимаемых как «дисциплинарные матрицы», Т. Кун черпал из опыта классической науки (механика Ньютона и т.д.), равно как и ценности как части парадигмы он рассматривал те, которые были наработаны в классической науке. Речь идёт не об этических ценностях, а о правилах и нормах, выступающих в качестве регулятивов в научной деятельности. Например, правило, согласно которому научные предсказания должны быть точными и выраженными в количественных показателях. Для Т. Куна ценностями выступают правила и нормы выполнения и проведения научного исследования. Современные исследования по эпистемологии уже допускают, что и моральные суждения также могут играть наравне с научными наблюдениями роль средств обоснования научного знания, что позволяет И. Т. Касавину допустить, что «неклассическая эпистемология, расставаясь с ригоризмом наивных апологетов классической теории познания, становится систематическим учением о познавательном содержании всей человеческой жизни» [Касавин 2017: 18].
174
См. также в работе А. П. Огурцова о трех формах рациональности [Огурцов 2011б: 463–484]. Заметим, что три формы рациональности не предполагают их соотнесения с временной хронологией. Несмотря на многолетнюю привычку исследователей выстраивать развитие науки и философии по трем хронологическим периодам – классический (на основе классического естествознания XVII–XX вв.), неклассический (начиная с конца XIX в.) и постнеклассический (после 2-й мировой войны), такое деление на периоды и эпохи не просто условно, но оно и не верно. Б. Паскаль, С. Киркегор или Ф. Ницше на фоне классической парадигмы выступают яркими представителями постнеклассики, предлагая свою экзистенциальную правду личного опыта в противовес так называемой объективной истине. Полагаю, речь можно вести именно об установках и парадигмах, которые наблюдались всегда в истории науки и философии. И тем более какая-либо периодизация не применима к античности, в которой мы найдём (точнее, узнаем в ней самих себя) разные примеры философствования, разные истории для разных нормативных установок, как это, например, сделал М. Фуко, предложивший для выстраивания своей предельной установки на новое переначинание себя переосмыслить опыт римских стоиков [Фуко 2007].
175
Хотя надо признать, что именно в классической форме рациональности особенно благодаря усилиям И. Канта в классическое естествознание была внесена математическая составляющая (то есть опыт чистой мысли) и было введено понятие идеального объекта, который является не чем иным, как конструктом, то есть вообще-то сугубо рукотворным результатом мыслительной деятельности, существующим не где-нибудь, но именно в мышлении. Тем самым уже происходит смещение представления об объективности – от поиска объективности в мире, природе, внешней по отношению к человеку – к поиску объективности мышления, представлению о мышлении как процессе, имеющем свои законы (см. подр. об идеальных объектах [Гайденко 1987]).
176
В явном осознанном виде такой сдвиг был показан с разной степенью проработанности и результативности в работах М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна, М. М. Бахтина, Л. С. Выготского, М. Фуко, Г. П. Щедровицкого, М. К. Мамардашвили. См. об этом также в наших работах [Построение 2016; Смирнов 2016].
177
См. отдельно о правилах построения карт маршрутов, называемых картоидами [Смирнов 2016; 2017; 2018].
178
Соизмеримость предполагает не столько договоренность об общих понятиях и смыслах, сколько соотнесение нормы и меры в разных парадигмах. Поэтому речь идёт не столько о том, что представители разных парадигм не могут договориться и соотнести свои понятийные словари, сколько о том, что они полагают в основания своих парадигм разные меры и разную нормативность как регуляторы, конфигурирующие всю парадигмальную эпистему.
179
Л. Витгенштейн это называл «сменой аспекта» (см. работу В. В. Бибихина о Л. Витгенштейне с таким названием – «Витгенштейн. Смена аспекта» [Бибихин 2005]).
180
См. также о многомерности рациональности в работе [Порус 2010]. В. Н. Порус говорит, например, о таком типе рациональности, который связан с ориентацией на успешные образцы деятельности. Действие рационально, если оно способствует достижению цели, и нерационально, если разрушает движение к цели или уничтожает саму цель [Порус 2010: 7]. Такие крайне прагматистские примеры рациональности говорят как раз о полной дезориентации. Если мы признаем действие по достижению цели достаточным критерием рациональности, то создание лагерей смерти будет воплощением рациональности. Впрочем, кто сказал, что рациональное действие должно быть нравственно безупречным? Список можно продолжить – говорят о методологическом, социальном, психологическом и ином измерении рациональности. Тем самым «многомерность рациональности» снимает вопрос о том, какова она – классическая или неклассическая. Вопрос переносится в области научных предметов разных наук и многообразие их инструментария.
181
Заметим, что также происходит и с пониманием крупного масштабного философа. Его начинают записывать в представителя аналитической философии (в случае с Л. Витгенштейном) или в структуралисты (в случае с М. Фуко) в то, время как подобные характеристики не более, чем обманчивые редукции, путающие карты и дезориентирующие здравый ум.
182
См. различие типов ученого на примере Д. Бруно и Г. Галилея, как двух установок и типов поведения ученого [Огурцов 2011а]. Добавим, что, например, Э. Гуссерль, стремящийся в свое время преодолеть косность и натурализм классической метафизики, и призывавший «назад к вещам», но выстраивающий свою феноменологию как «строгую науку», понимал свое философствование как служение и выстраивал свою жизнь как аскезу в лучших образцах классического ученого-аскета [Смирнов 2019а]. По сравнению с Э. Гуссерлем иронист и прагматик Р. Рорти никак не выглядит аскетом.
183
Тот же Р. Рорти, впрочем, выделял четыре метода написания истории философии: рациональная реконструкция (предполагает изучение и интерпретацию прошлой философии на языке современной мысли, языке интерпретатора), историческая реконструкция (предполагает изучение прошлой философии в ее объективности и достоверности, в ее собственной терминологии, но избегая анахронизма), история духа (здесь историк философии изучает на примере конкретных учений генеалогию мысли, логику развития самого духовного развития и вырабатывает определённый философский канон); и доксография (самый распространенный и сомнительный жанр изложения, предполагающий систематизацию, сбор фактов и составление хрестоматий и энциклопедий, в силу чего живая философия превращается в мертвую хронику и музеефицируется). Р. Рорти не устраивал ни один из выделенных им жанров. Он предлагал так называемую интеллектуальную историю, которая бы сочетала в себе как историю интеллектуальных исканий, так и понимание специфики личного опыта поиска и выработку философом своего метода и инструментария [Рорти 2017]. В этой точке позиция Р. Рорти перекликается с позицией П. Адо.
184
Есть отрадные исключения [Воль 2012; Вольф 2016; Кассен 2000]. Например, М. Н. Вольф показывает пример тонкого анализа и различения двух методов философского исследования, соответствующих двум модусам и способам понимания ситуации человека, и соответственно она выделяет и две стратегии мышления, обознающиеся как фундаменталистская и герменевтическая (номадическая). Первая опирается на традицию и культуру текста, вторая – на культуру речи. Эти модусы принято соотносить соответственно с платоническим направлением в философии и софистическим. Ориентация и опора на культуру текста порождает соответственно логический способ мысли, основанный на аподиктической аргументации. Второй модус, ориентируясь на речь, произносимую здесь и теперь в конкретной ситуации встречи, порождает стратегию поиска и убеждения, с опорой на техники эпидейксиса. Первая стратегия довлеет к фиксированным текстовым жанрам и объективации, вторая довлеет к номадическому поисковому жанру [Вольф 2016]. Разумеется, в фундаментально-объективистском и герменевтико-номадическом методах будет присутствовать и разное представление о нормативности. В первом случае норма вытекает из правил построения текста, во втором модусе норма вытекает из правил убеждения в устной встрече. Кстати, здесь мы слышим перекличку с известным различением классической и неклассической риторики. Первая ориентируется на объективность и истинность высказывая и суждения. Вторая ориентируется на убедительность и эффективность убеждения. Отчасти такое разведение напоминает сопоставление у Р. Рорти эпистемологии и герменевтики.
185
Что и позволяло говорить М. К. Петрову о человекоразмерности классического идеала рациональности, о размерности самого процесса научного познания человеческому индивиду (см. выше).
186
Отметим, что опыт С. Киркегора, Ф. Ницше или А. Шопенгауэра долгое время не входил в ряд классического философствования. Затем много позже Киркегор становится не просто модным, но и классиком, то есть носителем нормы философствования, только определенного типа, экзистенциально-личностного, отличного от опыта рационально-логичного. Но коли так, то весьма проблематичным становится всякий называемый порядок имен классиков. Почему Гегель однажды становится классиком, а С. Киркегор нет? И почему С. Киркегор становится потом чуть ли не образцом для подражания у европейских интеллектуалов уже в ХХ веке?
187
Собственно, представление о том, что такое просвещение, и было сформулировано И. Кантом: имей мужество пользоваться собственным умом [Кант 1966]. Такая максима была следствием всё той же базовой антропологической установки – естественный порядок вещей доступен автономному разумному индивиду, мир соразмерен человеку.
188
Фактически ту же проблему, но на примере проблемы идеального обсуждал Э. В. Ильенков, и фактически в то же самое время, по поводу чего разгорелась дискуссия между ним и Д. И. Дубровским, демонстрировавшем наивный вульгарный материализм [Ильенков 1979]. Э. В. Ильенков пытался тому доказать простую мысль, что мышление происходит хоть и с помощью головы мыслителя, но не в голове. Никакого сознания в самом мозгу нет. Мышление суть событие, происходящее вне головы и имеющее деятельностную природу. Идеальное также является феноменом, существующим вне индивида, выступающим объективной реальностью для него. Будучи выученным также на «Капитале» К. Маркса, как и М. К. Мамардашвили, Э. В. Ильенков фактически показывал объективность идеальных форм, борясь с дурновкусием наивных советских псевдомарксистов.
189
Исследователь В. В. Калиниченко отмечает, что потому Мамардашвили и занимался пристально и всю жизнь философствованием Р. Декарта, что тот, по его мнению, осуществил первым опыт неклассического философствования. Поскольку принцип cogito и означает акт личного понимания и самоперемену ума, а последнее есть базовое условие для доступа к истине, условие осуществления пути к трансцендентному. Истина доступна тому, кто меняется [Калиниченко 2004]. Заметим, что возвращение к феноменологическому сдвигу Э. Гуссерль связывал также с Декартом и его принципом cogito. А М. Хайдеггер базовые постулаты феноменологии понимал как такие, которые всегда были приняты в философском опыте, начиная с античности [Хайдеггер 1994]. Отметим, что, например, М. Фуко как раз отказывал Декарту в таком опыте «заботы о себе». В концепте «практик себя» он как раз обращается более к античным авторам (римским стоикам), занимавшимся духовными упражнениями, выступающими как условие для доступа к истине. Эта практика себя как раз закончилась, полагает Фуко, во времена Декарта и наступил «картезианский момент», после которого европейская мысль пошла по схеме рационального спекулятивного мышления, предав забвению принцип заботы о себе. С этим связан и сам проект практик себя Фуко, призвавшего к современникам к тому, что мы должны снова переначать самих себя [Фуко 2007: 26–27].
190
Ж. Деррида отмечал, что история европейской философии всегда описывалась как история разума [Деррида 2000]. Он развивает мысль своего учителя Фуко. Если дать слово безумию и писать об истории безумия, но на его языке, а не на языке разума, то остается только одно – замолчать. Потому что безумие не говорит на языке разума. Для разума оно немо. Добавим, что великие прорывы в истории самой философии совершались на грани разума – примеры Ницше, Киркегора, Чаадаева известны. Если быть точным, то прорывы совершались на грани принятой нормы-конвенции, предлагая иное видение, показывая новый горизонт, неведомый для разума, для которого (горизонта) не выработаны слова и понятия, а потому доступный скорее безумцам.
191
Что-то весьма близкое и почти совпадающее в языке слышится в этих словах Фуко и у другого автора, отечественного философа Ф. И. Гиренка, демонстрирующего неклассический способ философствования и предлагающего неклассическую философию человека [Гиренок 2017]. Он вообще полагает, что родовое понимание человека сводится к пониманию его как аутиста, то есть существа, которое не просто немо для разума, не просто не разумно, но будучи замкнутым на самое себя, на собственную самотождественность, вообще не может быть понято извне никаким разумным пониманием. Но если аутизм есть фундаментальная характеристика человека вообще, а природа человека в таком случае асоциально, то тогда оно и не нормально. Но если аутизм – норма человека, то что есть не норма, то есть патология? Такое вопрошание чревато, поскольку в таком случае сам автор Ф. И. Гиренок вынужден будет признать, что и он сам – аутист, а потому он должен замолчать и перестать писать свои книги.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.
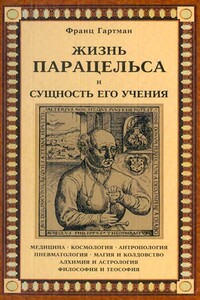
Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

«… Постановка „Бесов“ в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина.
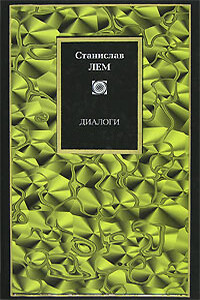
Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.