Memoria - [31]
— Как же попал дед в Абиссинию?
— А он говорил, что тогда много русских было, помогали абиссинцам с кем-то воевать.
Мы с Марией Самойловной переглянулись.
— Возможно, — сказала Мария Самойловна. — Был ведь русский отряд во время абиссинско-итальянской войны.
В девяностые годы.
Валю мало интересовало, зачем приезжали русские, ее интересовал сам принц и «роскошная жизнь», которую он обещал ей. А ее обвиняют в измене Родине! Она опять заплакала, вспомнив, как страшно кричал и матерился майор.
День протекал в разговорах. К вечеру заверещал и щелкнул замок. Дверь широко раскрылась: «На прогулку!»
Валя и Аня Саландт отказались. Мы с Марией Самойловной вышли. Нас посадили в лифт. Подняли очень высоко. «Пройдите!» Мне открыли одну дверь, ей другую. Пахнуло морозом. Вышла. Ночное небо озарено снизу огнями города. Яркий луч фонаря, освещающий клетку без крыши. В рост человека бетонные стенки, еще два метра выше — проволочная сеть. За ней еще такие же сети клеток. Можно сделать шагов двадцать по кругу. Над клетками мерцает, клубится небо, отражая огни. В луче фонаря танцуют звездочки снежинок. Из глубины, снизу, доносятся гудки машин, звон трамваев, гул большой площади. Клетки на крыше. Стою. Смотрю. Кружатся снежные звезды. Под их ритм возникают стихи: Встав на молитву, стою и молчу.
Во что вера? В то, что есть все-таки небо. И это помощь судьбы, что не спустили нас в колодец двора, а подняли на крышу. Здесь выход из клетки, к танцу снежинок, к черному небу. Ничего они не могут сделать со мной...
Вспомнилась одиночка в Крестах, в 1937 году. Тогда сложились стихи:
Тогда я еще не знала, что стих в тюрьме — необходимость: он гармонизирует сознание во времени. Ольга Дмитриевна Форш не была в тюрьме, но хорошо поняла, что человек выныривает из тюрьмы, овладевая временем, как пространством. Но он (как его звали, одетого камнем?), вынырнув из тюрьмы, не нашел выхода в ритме стиха и поэтому сошел с ума. Те, кто разроет свое сознание до ритма, — не сойдут с ума...
Снежинки в луче тоже танцуют ритмически... Белые на черном небе... Овладение ритмом — освобождение. Они ничего не смогут сделать... Щелкнула дверь клетки: «В камеру!» Я шагнула в лифт одновременно с Марией Са-мойловной, вышедшей из другой клетки. Спустили нас на лифте вниз, в камеру. Стоит тишина. Снова загремел засов. Щелкнула, открываясь, дверь.
Вошли те, двое, что меня арестовали.
— Гаген-Торн?
— Я.
— Имя, отчество?
— Нина Ивановна.
— Подпишите акт и распишитесь в получении передачи.
Один держал сетку с узлом, другой положил на стол бумаги и перо. Я прочитала: акт обыска. Как я и думала, вчера, поздним вечером. Изъято: 10 общих тетрадей, 2 фотоальбома, 6 тетрадей с надписью «Полевые дневники»...
Что такое?! «Пол вскрыт и перекопан, консервных банок не обнаружено». Так вот оно как!*
Второй торопил:
— Получите ваши вещи. Ваша мать так просила, что я согласился взять: одеяло, простыни, полотенце, халат, зубную щетку, расческу. (Молодец, мамуся, — прошлый опыт помог.) Вот продукты, — он развернул бумагу. Прислали заготовленное к Новому году, видимо, не думали встречать его теперь.
Те, двое, взяли расписки, пошли. Снова лязгнул замок.
— Ну что же, товарищи, вот мы и встретим Новый год! — сказала я, кладя на стол продукты.
— Как вы нам отдадите, ведь у нас-то ничего нет, — возразила Валя.
— Таков обычай тюрьмы,— отвечала я, — здесь не едят в одиночку.
— Раньше был общий котел, — подтвердила Мария Самойловна, — но с тридцать седьмого стали отделять половину, а остальное себе. — В тридцать седьмом передач почти не было, а народу в каждой камере — десятки. Все равно достались бы нечувствительные крохи, и потому дележ превратили в символ, половину оставляя в реальное пользование себе и близким.
— Вы где сидели?
— В московских тюрьмах, — неопределенно сказала она, явно не желая углублять разговор.
Мы сели ужинать. Мысли мои все возвращались к фразе протокола: «Пол вскрыт, консервных банок не обнаружено». Кто же, кто сказал о банках?
Осенью, вернувшись из Крыма, я читала свои колымские стихи у близких друзей, сестер Гвоздевых. Лена сказала печально:
— Они никогда не будут напечатаны, Ниночка, и это жаль. Они стоят того, чтобы их узнали. Они потрясают.
* В кухне, почти нашей, у нас было небольшое подполье, обыскивающие в нем долго рылись. Им давно не пользовались, пришлось сдвигать столы, что вызывало особое подозрение. Бумаги перерыли все, перечитывали все мои девичьи письма и дневники. С тех пор я не могу их писать. А колымских стихов все-таки не достали — я просидела на них весь обыск. (Примечание Г.Ю.Г.-Т.)
— Конечно, при моей жизни не напечатают, — отвечала я, — ну что же, заложу в консервные банки — ив землю!
Вернувшись домой, сидя на кухне, я, еще возбужденная, передавала разговор семье. Вошла соседка, Ирина Павловна. Она слышала разговор. Кто еще мог слышать? Мы живем на первом этаже, может, кто стоял под окном? Кто сообщил в НКВД о консервных банках? Это явно донос, но чей? Гвоздевы вне подозрений... Повторяла ли я еще где-нибудь эту фразу? Не помню... Неужели она?

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
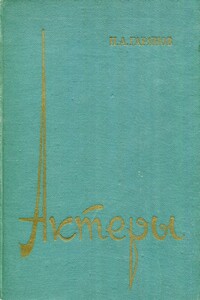
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.