Мехмед Синап - [3]
— Эй, мельник, где ты?
— Тут я, тут! — отозвался старый Мустафа.
Постукивая по жернову и бормоча что-то про себя, он поднял сухие, угасшие глаза на Синапа.
— Кто будет твоя милость? — промолвил старик, перестав стучать, и в подобии улыбки показал желтые зубы.
— Почему заперта мельница? — спросил Синап.
— Как же не запирать ее, сынок: ни души живой не видно. Плохо, плохо народу!
— Так я и думал, — сказал Синап как бы про себя, подергивая черный обвислый ус. — Ну-ка, ну-ка... узнаешь?
Старик вперил в него тусклый взгляд:
— Дай всмотрюсь...
Синап повернулся и пошел к коню.
— Не к чему! — буркнул он, досадуя на свои дурные предчувствия.
Леса зеленели, поздняя весна ползла по горным склонам к высоким заснеженным вершинам. Внизу пенилась река, порхали горлинки.
Навстречу показалась двуколка, в которую были запряжены две тощие коровы. Впереди шла женщина в белом платке. Синап дал ей дорогу, разминулся с нею, но, подумав, повернул коня и окликнул:
— Молодка!
Женщина остановила телегу. Синап спросил:
— Что везешь?
На него уставилась пара воспаленных глаз. В тот же миг глаза эти увлажнились, по щекам потекли слезы. Женщина откинула рогожу, Синап вздрогнул: вытянувшись, в неглубоком ящике лежали два маленьких ребенка, чуть не друг на друге.
— Вот их везу... на кладбище, — простонала мать, утираясь концами платка.
— От чего померли? — спросил потрясенный Синап.
— От чего... С голоду!.. Один... а другой хворал...
Синап пошарил в складках своего кушака и протянул женщине золотой.
— Вот, возьми, — сказал он. — Тебе пригодится.
Женщина взяла золотой и, глядя то на монету, то на Синапа, чуть слышно, неуверенным голосом проговорила:
— Деньги... Живи на радость своей матери, сынок! Только к чему они, эти деньги? Хлеба нету, хлеба!.. Все как есть пропадаем.
«Ай-ай, до чего дошло... От бесхлебья мрут люди...» — думал Синап; он спешил. Пришпоривая коня, он гладил его по гриве, словно делился с ним мыслями.
— Хороз, Хороз!.. — сказал он. — Плохие времена настали, Хороз...
Конь прядал ушами от многоголосого шума реки, горного эха, свиста весеннего ветра, шороха высокой травы, путавшейся у него в ногах.
Образы двух малюток в тесном гробике не выходили у Синапа из головы. Ему чудилось, что из каждого дома на него уставилось желтое лицо с ввалившимися глазами. С какой радостью, с каким весельем сердцем ехал он в эти места, где вырос! И вот на каждом шагу его встречает смерть! Он дрожал всем телом, терзаемый бессильным гневом и скорбью.
— Хороз, Хороз... что же делать?
Глубоко, полной грудью, вздохнув, он остановил коня и стал вглядываться в тонкую мглу над Машергидиком.
Его родина, его любимая Чечь голодает!..
Он понял, он увидел это своими глазами. Истина мало-помалу открылась Синапу. Ехал он полный радостного ожидания, а попал в мир скорби и горечи. На дорогах ему встречались дети, оборванные, полуголые; они протягивали иссохшие, желтые, как воск, ручонки и просили:
— Дядя, дай хлебца!
Он искоса, каким-то виноватым взглядом посматривал на них и спешил дальше. Оборачиваясь, он смотрел им вслед, наблюдая, как они расходятся медленной, тяжелой, как у взрослых, поступью.
Питаясь корешками и травой, люди ходили скрючившись, как отравленные, — они выли, как собаки, перед лицом голодной смерти. Взрослые еще кое-как держались, крепились, но плач детей, уже бессильных бороться с немочью, глухой, сдавленный плач слышался во всех дворах. Дети умирали первыми перед исплаканными, полными горя глазами матерей; но нередко матери опережали детей, и глаза их стекленели, беспокойные и после смерти.
Так было по всей Чечи.
От Кестенджика до Каинчала и Ала-киоя, во всем Машергидике уже третий год не родилось ни зерна пшеницы, ячменя или ржи; кукуруза посохла, крестьян объял ужас. Качамак[1] стал роскошью, хлеба нельзя было достать и за золото. Последние остатки хлеба забирали для турецкой армии, воевавшей с австрийцами.
Ничего не поделаешь! У государства свои нужды. Время было военное, а война всегда съедает готовое, нового не родит, порождает нищету и разжигает бунты. Многие вместо зерна мололи жолуди, но и тех не стало; тогда стали собирать сосновые шишки и чернильные орешки.
Женщины и дети таскали в мешках коренья, сушили их, мололи и из этой муки делали тесто. Хлеб получался вязкий, черный, как земля, и горький, от него рыхлели десны и портились глаза.
— Что несете, ребята? — пытался Мехмед ободрить детей веселым обращением.
Но те хмуро проходили мимо или смущенно и робко прятались от него.
Протекшие годы преобразили Синапа. Его не узнали? Тем лучше; значит, он стерся в памяти людей, как старая монета, вышедшая из употребления. Он вспомнил свое сиротское детство: полуразвалившуюся лачугу, оставшуюся после смерти отца, хромого осла и двух-трех коз, которых он пас. Он слонялся по майданам с утра до вечера, валялся в густой тени, оборванный и грязный, швырял камнями в отощалых деревенских псов и жевал сухую корку, выпрошенную у сердобольных людей или близких родичей. Плохие времена! Мерзкие времена!
— Эх, жизнь, жизнь, будь ты неладна! — повторял он вздыхая.
В двадцать лет он нанялся батраком к Метексе Марчовскому. Богатый скотовод невзлюбил его. Он часто находил в переметных сумах своего работника, после длительных отлучек, разные предметы, которых не найдешь на дороге, да и купить батрак их не мог: ожерелья, поясные пряжки, шелковые платки... Откуда он их берет? И на что они ему?

Людмил Стоянов — один из крупнейших современных болгарских писателей, академик, народный деятель культуры, Герой Социалистического Труда. Литературная и общественная деятельность Л. Стоянова необыкновенно многосторонняя: он известен как поэт, прозаик, драматург, публицист; в 30-е годы большую роль играла его антифашистская деятельность и пропаганда советской культуры; в наши дни Л. Стоянов — один из активнейших борцов за мир.Повести и рассказы Л. Стоянова, включенные в настоящий сборник, принадлежат к наиболее заметным достижениям творчества писателя-реалиста.
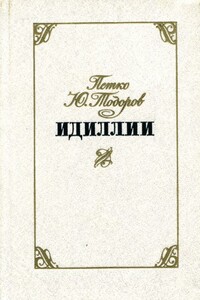
Книга «Идиллии» классика болгарской литературы Петко Ю. Тодорова (1879—1916), впервые переведенная на русский язык, представляет собой сборник поэтических новелл, в значительной части построенных на мотивах народных песен и преданий.
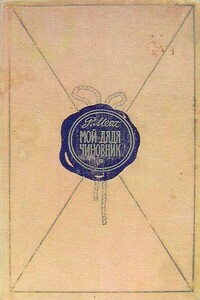
Действие романа известного кубинского писателя конца XIX века Рамона Месы происходит в 1880-е годы — в период борьбы за превращение Кубы из испанской колонии в независимую демократическую республику.
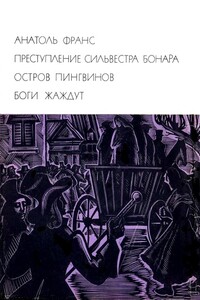
В книгу вошли произведения Анатоля Франса: «Преступление Сильвестра Бонара», «Остров пингвинов» и «Боги жаждут». Перевод с французского Евгения Корша, Валентины Дынник, Бенедикта Лившица. Вступительная статья Валентины Дынник. Составитель примечаний С. Брахман. Иллюстрации Е. Ракузина.
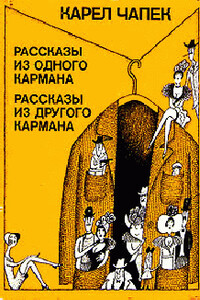
Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
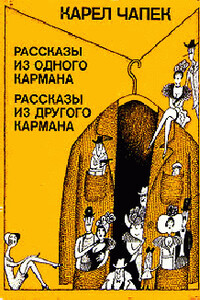
Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
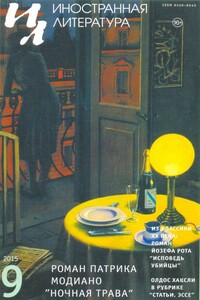
Целый комплекс мотивов Достоевского обнаруживается в «Исповеди убийцы…», начиная с заглавия повести и ее русской атмосферы (главный герой — русский и бóльшая часть сюжета повести разворачивается в России). Герой Семен Семенович Голубчик был до революции агентом русской полиции в Париже, выполняя самые неблаговидные поручения — он завязывал связи с русскими политэмигрантами, чтобы затем выдать их III отделению. О своей былой низости он рассказывает за водкой в русском парижском ресторане с упоением, граничащим с отчаянием.