Маймонид - [3]
Чтобы исследовать эту связь, можно задать несколько вопросов. Почему столь многих евреев привлекает изучение медицины? Почему так много евреев добивается в этой профессии заметных успехов? И почему (по крайней мере, на протяжении последних столетий) еврейским врачам приписывалось больше случаев излечения больных, чем их нееврейским коллегам?
Разумеется, ответы на эти вопросы зависят от многих факторов, меняющихся из века в век. Но тем не менее есть нечто, что объединяет все эпохи. И хотя это «нечто» скрыто под наслоениями временных и культурных пластов, мы можем разглядеть его, если рассмотрим этот феномен ближе и отставим в сторону — хотя бы ненадолго — религиозный скептицизм, свойственный нашему веку.
Как и во многих других сферах еврейских изысканий, мы можем приблизиться к ответам на поставленные вопросы с помощью трудов Маймонида, в данном случае — пятой из так называемых «Восьми глав» (Шмона праким), которыми он предваряет свой комментарий к ПиркейАвот («Поучениям Отцов»). Этот комментарий является частью комментария Маймонида к Мишне, который он завершил в 1168 году, когда ему было тридцать лет. В пятой из «Восьми глав» он впервые поднимает тему, к которой вернется еще не раз в своих последующих трудах. Вкратце ее можно выразить словами самого Маймонида: подлинная цель богатства и прочих благ...
«...заключается в том, чтобы с их помощью достигать благородных целей, использовать их ради ухода за телом и сохранения жизни, чтобы таким образом их владелец мог получить знание о Боге в той мере, в какой Бог нисходит к человеку.
С этой точки зрения, изучение медицины немало способствует обретению добродетелей и знания о Боге, а также достижению подлинного духовного счастья. А значит, изучение медицины и овладение ее знаниями есть исключительно важное религиозное дело».
Именно Маймонид говорит о том, что цель ухода за телом состоит в поиске знания о Боге и об абсолютной морали, образцом которой служит Бог. Изучение медицины, по мнению Маймонида, является религиозным действием. Эти слова Маймонида повторяют тезис, провозглашенный мудрецами Талмуда, которые называли лекаря посланником, а в некоторых случаях — «сподвижником» Бога. Ведь лекарь может оказать больному серьезную помощь в попытках понять Божьи пути.
И хотя эта концепция принадлежит Талмуду, ее происхождение и вдохновляющую ее (как и все талмудические идеи) мысль следует искать в Торе. Строгие предписания относительно здорового уклада жизни общины — гигиены, профилактической медицины и санитарии, — приводимые в книге Левит, поясняются в Талмуде для того, чтобы подробно остановиться на различных аспектах поведения каждого отдельного человека. Целью этих предписаний была чистота человека, когда он предстоит перед Богом, и потому основная идея, что лежит за словами талмудических мудрецов, — это соотношение между физической и моральной чистотой, о котором говорит Тора. В этой связи всегда подчеркивается, что забота о здоровье — это забота о жизни. Эта забота вменяется в обязанность каждому еврею, даже если она вступает в противоречие с другими заповедями. Весь еврейский закон, даже Декалог[5], может быть нарушен ради спасения жизни, и единственным исключением из этого правила служат запреты богохульства, кровосмешения и убийства. «Выбери жизнь»[6] — предписывает нам Господь, связывая таким образом Свои заповеди с понятием «жизнь». Самим словом «избери» Господь указывает на то, что человек обладает свободой выбора[7].
На мой взгляд, суть еврейского подхода к врачеванию следует рассматривать именно в связи с представлением о свободе выбора. Понятие свободы выбора многократно упоминается в Писании, в раввинистической литературе, в сочинениях Маймонида. В последних оно иногда подробно растолковывается, а иногда просто констатируется, как, например, в пятой главе первого тома сочиненияМишне Тора[8]: «Свобода выбора дарована каждому человеку». А в последней главе Шмонапраким Рамбам пишет: «Наша Тора согласна с греческой философией, которая убедительно доказывает, что человек сам распоряжается своими действиями; нет никакого внешнего принуждения, и ничто не движет им, кроме него самого — как в хорошем, так и в плохом смысле»[9].
В священных текстах мы сталкиваемся с противопоставлением воли Господа и свободы человеческого выбора. В них допускается неписаный компромисс, согласно которому забота о теле вверяется самому человеку, и вмешательство Бога в этом вопросе не предусматривается. Здесь мудрецы Талмуда разделяют точку зрения древних греков, наиболее значимый вклад которых в медицинскую теорию заключался в отделении служения богам от основанных на изучении природы методов диагностики и терапии. Этот подход подтверждается клятвой Гиппократа и целым рядом классической греческой медицинской литературы — врачи клянутся Аполлоном и Асклепием, а затем продолжают рассуждать о принципах школы врачевания, более не обращаясь ни к этим, ни к другим богам. Более того, ведущие практикующие медики, представители школы Гиппократа, рассматривали изучение своей науки как средство понимания природы божественного, с чем мы уже сталкивались у евреев. Но греки в этом отношении пошли дальше. Гален из Пергама, наиболее влиятельный из врачей всех поколений, полагал, что самым верным способом служения божеству будет не молитва и жертвоприношение, но эксперимент и наблюдение. Во втором веке нашей эры он сказал, что его самый замечательный анатомический труд — «О назначении человеческого тела» — это «священная речь, которую, как гимн, посвящаю Создавшему нас»
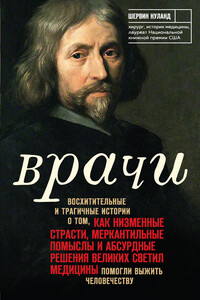
По существу, история медицины – это история самого человечества со всеми его взлетами и падениями, его дерзким, но тщетным стремлением постичь истину и конечную цель бытия. Историю медицины можно представить в виде бесконечной вереницы книг, характеров, сменяющих друг друга теорий и человеческих заблуждений или совсем иначе, как подлинную квинтэссенцию развития культуры. Перед вами одна из самых красивых книг о том, как развивались наши представления о здоровье: от Гиппократа до первых операций на сердце.

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.
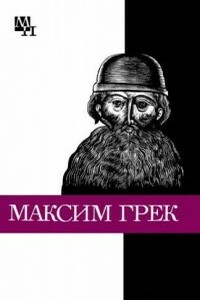
Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в… оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом.В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека.

Герой книги — выдающийся полярник Руал Амундсен. Он единственный побывал на обоих полюсах Земли и совершил кругосветное плавание в водах Ледовитого океана. Прошел Северным морским путем вдоль берегов Евразии и первым одолел Северо-Западный проход у побережья Северной Америки. Блестящий организатор, на пути к Южному полюсу безошибочно выбрал собачьи упряжки и уложился в сжатые сроки, пока трудности не ослабили участников похода. Фигура исторического масштаба, опыт которого используют полярники до сего дня.Однако на вершине жизни, достигнув поставленных целей, герой ощутил непонимание и испытал одиночество.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.
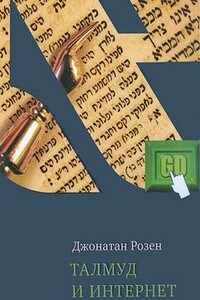
Что может связывать Талмуд — книгу древней еврейской мудрости и Интернет — продукт современных высоких технологий? Автор находит удивительные параллели в этих всеохватывающих, беспредельных, но и всегда незавершенных, фрагментарных мирах. Страница Талмуда и домашняя страница Интернета парадоксальным образом схожи. Джонатан Розен, американский прозаик и эссеист, написал удивительную книгу, где размышляет о талмудической мудрости, судьбах своих предков и взаимосвязях вещного и духовного миров.
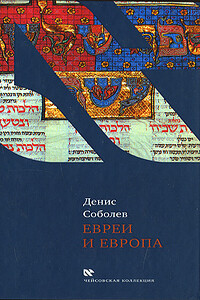
Белые пятна еврейской культуры — вот предмет пристального интереса современного израильского писателя и культуролога, доктора философии Дениса Соболева. Его книга "Евреи и Европа" посвящена сложнейшему и интереснейшему вопросу еврейской истории — проблеме культурной самоидентификации евреев в историческом и культурном пространстве. Кто такие европейские евреи? Какое отношение они имеют к хазарам? Есть ли вне Израиля еврейская литература? Что привнесли евреи-художники в европейскую и мировую культуру? Это лишь часть вопросов, на которые пытается ответить автор.
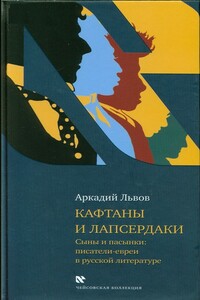
Очерки и эссе о русских прозаиках и поэтах послеоктябрьского периода — Осипе Мандельштаме, Исааке Бабеле, Илье Эренбурге, Самуиле Маршаке, Евгении Шварце, Вере Инбер и других — составляют эту книгу. Автор на основе биографий и творчества писателей исследует связь между их этническими корнями, культурной средой и особенностями индивидуального мироощущения, формировавшегося под воздействием механизмов национальной психологии.
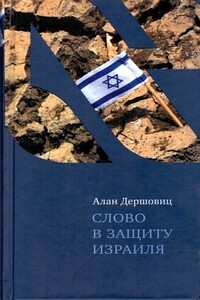
Книга профессора Гарвардского университета Алана Дершовица посвящена разбору наиболее часто встречающихся обвинений в адрес Израиля (в нарушении прав человека, расизме, судебном произволе, неадекватном ответе на террористические акты). Автор последовательно доказывает несостоятельность каждого из этих обвинений и приходит к выводу: Израиль — самое правовое государство на Ближнем Востоке и одна из самых демократических стран в современном мире.