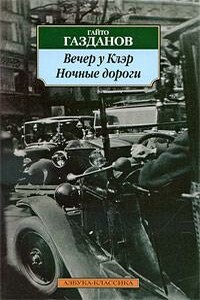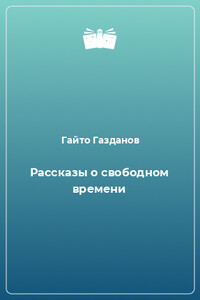* * *
Он понимал, что эта французская певица для него всегда останется недостижимой; и в то же время чувствовал, что без нее он жить не может. Все, что до сих пор казалось ему неизбежным и необходимым, как воздух и вода, все его прежние мысли, привычки и желания — все это вдруг потеряло свое значение. И когда это отошло от него, он ощутил тревожное одиночество, совершенно подобное тому, которое испытал много лет назад, когда стоял на коленях перед бесчувственным телом Тишки и глядел в его обезображенное лицо. Целая сложная сеть бессознательных правил жизни, ясных и несомненных для Мартына, вдруг точно сгнила и рассыпалась; и, лишившись ее, Расколинос стал беспомощен и бессилен. И в этой тревожной пустоте заклубился мутный бред, которого Расколинос никогда не знал. Мартын чувствовал себя, как тяжелобольной: больной лежит в кровати и в жару, с трудом дыша, слышит непонятный, глухой гул — и гул несет его с собой; и в его беспощадном движении только изредка мелькают знакомые куски воспоминаний — журавль над колодцем, желтый лес, река, и заводь, и туманное поле над головой. Расколинос жил теперь, постоянно преследуемый этим гулом, который изредка прекращался, но только для того, чтобы сейчас же возобновиться с прежней силой; он был так же неотступен, как страшный, старый доктор на экране, уходивший с полотна и появлявшийся через секунду с другой стороны. Каждую неделю Расколинос переезжал вслед за певицей в другой кинематограф — до тех пор, пока она не исчезла совсем и он не мог ее найти. Он пробродил по городу несколько часов подряд, ища ее портрет на афишах, потом, усталый и убитый, вернулся домой и лег на кровать, отогнув со слезами на глазах простыню, чтоб не запачкалась; и среди шума, немедленно его наполнившего, послышались впервые человеческие, жалобные всхлипывания.
* * *
Когда Расколинос обратился к своим бывшим сослуживцам, работавшим вместе с ним на фабрике, и попросил их указать ему какого-нибудь русского, хорошо знающего французский язык, они дали ему последний адрес Анюты. Расколинос на следующее же утро отправился туда.
Анюта принял его в пижаме, с папиросой во рту. На кровати, с которой он только что поднялся, лежал еще кто-то, закрывшись с головой одеялом. Монах, конечно, не мог бы подумать, что в постели Анюты спала Андрэ — хотя это было именно так. Расколинос увидел белую женскую ногу с обточенными, лакированными ногтями — и отвел глаза. Он объяснил Анюте, что хочет как-нибудь, хоть одним глазом, повидать французскую певичку, которую слышал в нескольких кинематографах. Он сказал — певичку, — потому что не знал другого слова, и поперхнулся от волнения.
Лицо его покраснело, глаза смотрели в пол. Когда Расколинос назвал Анюте фамилию Андрэ, — он произнес ее почти правильно, сказав только «Жали» вместо «Joli», — Анюта засмеялся, закашлялся и едва не проговорил: вот она, в кровати лежит, — но удержался. — Устроим это дело, отец, — сказал он, рассматривая линии на своей руке: на тумбочке лежала книга о хиромантии, которую он читал, — не бойся. Приходи завтра.
Расколинос пришел в девять часов утра. Анюта в столовой пил шоколад. Напротив него сидела Андрэ; рядом с ним — Маргарита, внимательно читавшая длинный роман «Страница любви» и хотевшая размешать шоколад ложечкой, не отрываясь от книги: она попадала вместо стакана то в пепельницу, то в сахарницу и очень сердилась; и поэтому ей показалось, что герой романа вдруг начал говорить глупости, чего на предыдущих страницах не делал. Расколинос увидел Андрэ и в первую секунду просто не понял этого. Потом он почувствовал, что как будто бы кусочек льда быстро прокатился в нем от горла к животу — и от этого Расколинос не мог сказать ни слова.
— Садись, старик, будем шоколад пить, — приветливо сказал Анюта. — Mon admirateur[7], — обратился он к Андрэ. Бешеные глаза ее устремились на Мартына. На нем был синий костюм с узкими брюками, высокий крахмальный воротничок с круглыми краями и галстук, прикрепленный раз навсегда завязанным узлом к металлической, невидимой пряжке, купленной им у разносчика, потому что она показалась монаху чудесно простой и удобной; сам он галстука завязывать не умел. — Qu'est ce que c'est que ce type la?[8] — сказал далекий голос Андрэ, и кусочек льда опять прокатился в груди Расколиноса. Анюта пожал плечами и сказал: — C'est un saint[9], — как будто бы знакомство со святым вовсе не представлялось удивительным. Сейчас же после этого обе сестры поднялись из-за стола и ушли, кивнув на прощанье Расколиносу. Расколинос остался с Анютой.
— Вот что, отец, — начал Анюта, — дело твое непростое. — Расколинос вздохнул. — Я тебе все могу устроить, но не сразу. Посмотри на себя, монах! — вдруг закричал Анюта. — С суконным рылом в калашный ряд лезешь! Ну кто же, — продолжал он мягче, видя, что Расколинос испугался, — ну кто тебя, старик, в таком виде полюбить может? Тебе костюм нужен, тебе, старик, деньги нужны. Все, небось, на фабрике работаешь?
— Оставил временно, — ответил Расколинос.
— Ну, вот. Чем ее кормить будешь? Чулки покупать?
— Работать стану.
— Гроши, отец, заработаешь. Нет, я тебе другое придумал. Я тебе, старик, счастье сделаю. Ты только меня послушай. Где живешь, Мартын?