Маркиз де Сад и XX век - [2]
Пожалуй, самая очевидная, бросающаяся в глаза черта текстов Сада — их совершенная освещенность, создающая иллюзию полной зримости происходящего. Источники света при этом так умело расположены, что от нас скрывается ускользающая реальность самой сцены: мы можем представить себе эти тела только освещенными, только при свете рампы, отключение света равносильно прекращению письма. У Сада, как точно подметили де Бовуар и Камю, почти не развито нормальное писательское любопытство к неосвещенным аспектам реальности, которое, по осмысленной аналогии с наукой, иногда называют наблюдением. Точнее, наблюдательность этого автора относится исключительно к миру становления и произвола, а не к миру уже сотворенных, организованных существ. Письмо Сада является «адамическим» и совершается в презумпции того, что до него в мире не имел места ни один креативный акт (и прежде всего сам акт творения); оно не стесняется шокировать здравый смысл абсурдностью утверждения, что мир, мол, еще только надо сотворить.
Не случайно поэтому основные точки возбуждения приходятся в романах Сада на те места, где на сцену выводится Бог как независимый творческий принцип: ведь только он своим существованием гарантирует реальность, внутри которой должен совершаться нормальный литературный акт. Страстность атеизма Сада прямо пропорциональна бескомпромиссной гиперреальности отстаиваемого им мира, мира, в котором все источники света подвластны исключительно самому пишущему. Бог в его текстах фигурирует в несвойственной ему ипостаси конкурента: он незаконен, потому что врывается в мир со своими общепринятыми осветительными приборами, лишая монополии главного и единственного Осветителя (излишне повторять, что им не мог быть Сад как личность, что принцип безмерных притязаний самого этого письма неантропоморфен).
Читатель постоянно оказывается наедине с парадоксом, который делает чтение текстов Сада довольно мучительным занятием: с точки зрения этого романиста, только совершенно фиктивный, выдуманный мир, не нуждающийся ни в какой внешней поддержке, и может быть до конца реальным. Причем эту «дурную реальность» исключительно трудно стряхнуть с себя, она совершенно зрима, хотя одновременно мы имеем все основания подозревать, что и сама сцена и движущиеся на ней фигуры — выдумка самого Осветителя, узурпировавшего основные божественные функции. Бог становится литературно невозможным, но вместе с тем и необходимым как незаменимый по своей искус-, ности провокатор, борьба с которым занимает произвольного Осветителя куда больше, чем тот или иной «отклоняющийся» сексуальный акт. Постоянно обличая Бога как ложного претендента, произвольный Осветитель претендует на статус бесконечно волевого существа, энергетически равного Богу. Особенно в романах Сада раздражает то, что, с точки зрения его собственных, заведомо искусственных, предпосылок, этот мир совершенно неопровержим. Трудно примириться с мыслью, что абсолютному произволу может соответствовать неопровержимость, которую издавна привыкли связывать с законом достаточного основания. Шокирует, собственно, то, что произвол может оказаться достаточным основанием: ведь логически (и Сад это прекрасно знает) этого нельзя ни допустить, ни опровергнуть.
В эссе «Философ-злодей» П.Клоссовски прекрасно показал, как с помощью интегрального атеизма Сад отделывается от благочестивой наивности так называемого рационального атеизма и диалектики, тешащих себя мыслью, что допустимо делать зло во имя некоего гипотетического Блага. Химически и нравственно чистое Зло Сада не позволяет убаюкать себя подобными фантазиями, принципиально отказывается черпать в них энергию исторического оптимизма.
Не случайно поэтому, что лучшие интерпретаторы Сада полностью интериоризовывали его литературно Невозможное в своем собственном письме, т. е. были не толкователями, а симуляторами, а в более простых случаях и соучастниками (этого не избежали, в частности все биографы Сада: Ж. Лели, М. Эне, Ж.-Ж. Повер и др.). Тексты Батая, Клоссовски, Бланшо не прикрываются даже видимостью академического интереса к плохо изученной фигуре эпохи Просвещения; читая их, сознаешь, что философию Сада невозможно воспроизвести, не вовлекаясь во всю совокупность делающих ее возможной литературных и паралитературных стратегий. Одно в принципе неотделимо от другого. Во-вторых, этот опыт невоспроизводим в той форме, в какой его пережил сам Сад; ни о какой каллиграфии, ни о каком копировании здесь не может быть и речи. Между этими двумя невозможностями постоянно маячил вопрос о том, что садический опыт в его целостности — всегда разорванной целостности — значит в это время и в этом месте? Отгородиться от подобного императива условной комментаторской установкой не удавалось (да и мало кто двигался в этом направлении до тех пор, пока в ряде аспектов этот автор все-таки не был переварен культурой, что произошло совсем недавно), и «садоведение» наиболее продвинули писатели, в основном эротического направления — те же Батай, Клоссовски и Бланшо (а до них Бодлер, Аполлинер, Бретон).
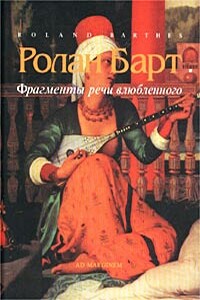
Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.
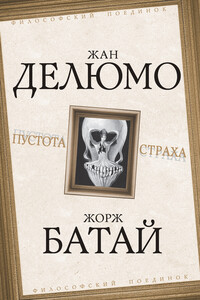
«Человеческий ум не только вечная кузница идолов, но и вечная кузница страхов» – говорил Жан Кальвин. В глубине нашего страха – страх фундаментальный, ужасное Ничто по Хайдеггеру. Чем шире пустота вокруг нас, тем больше вызываемый ею ужас, и нужно немалое усилие, чтобы понять природу этого ужаса. В книге, которая предлагается вашему вниманию, дается исторический очерк страхов, приведенный Ж. Делюмо, и философское осмысление этой темы Ж. Батаем, М. Хайдеггером, а также С. Кьеркегором.

«Процесс Жиля де Рэ» — исторический труд, над которым французский философ Жорж Батай (1897–1962.) работал в последние годы своей жизни. Фигура, которую выбрал для изучения Батай, широко известна: маршал Франции Жиль де Рэ, соратник Жанны д'Арк, был обвинен в многочисленных убийствах детей и поклонении дьяволу и казнен в 1440 году. Судьба Жиля де Рэ стала материалом для фольклора (его считают прообразом злодея из сказок о Синей Бороде), в конце XIX века вдохновляла декадентов, однако до Батая было немного попыток исследовать ее с точки зрения исторической науки.
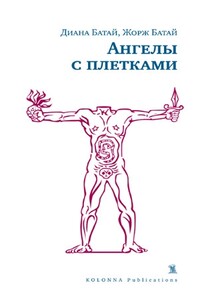
Без малого 20 лет Диана Кочубей де Богарнэ (1918–1989), дочь князя Евгения Кочубея, была спутницей Жоржа Батая. Она опубликовала лишь одну книгу «Ангелы с плетками» (1955). В этом «порочном» романе, который вышел в знаменитом издательстве Olympia Press и был запрещен цензурой, слышны отголоски текстов Батая. Июнь 1866 года. Юная Виктория приветствует Кеннета и Анджелу — родственников, которые возвращаются в Англию после долгого пребывания в Индии. Никто в усадьбе не подозревает, что новые друзья, которых девочка боготворит, решили открыть ей тайны любовных наслаждений.
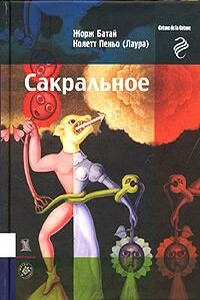
Лаура (Колетт Пеньо, 1903-1938) - одна из самых ярких нонконформисток французской литературы XX столетия. Она была сексуальной рабыней берлинского садиста, любовницей лидера французских коммунистов Бориса Суварина и писателя Бориса Пильняка, с которым познакомилась, отправившись изучать коммунизм в СССР. Сблизившись с философом Жоржем Батаем, Лаура стала соучастницей необыкновенной религиозно-чувственной мистерии, сравнимой с той "божественной комедией", что разыгрывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной от нее тем, что святость достигалась не умерщвлением плоти, а отчаянным низвержением в бездны сладострастия.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.
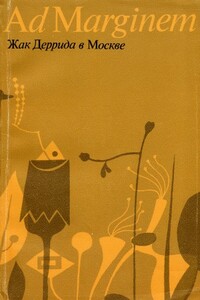
Книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» посвящена видному философу современной Франции, который побывал в нашей стране в феврале-марте 1990 г. Итогом этой поездки стали его заметки «Back from Moscow, in the USSR», в которых анализируется жанровое своеобразие серии «возвращений из СССР», написанных в 20-30-х гг. В. Беньямином, А. Жидом и Р. Этьемблем. В книгу также вошли статья московского философа М. Рыклина «Back in Moscow, sans the USSR» и беседа «Философия и литература», в которой, кроме самого Ж.
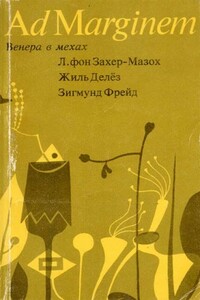
Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.