Марк Твен - [67]
Заполонив все пространство Америки, фикции прочно воцарились во всех ее углах и закоулках. Они подчинили себе политику, идеологию, мораль, быт и внутренний мир американского обывателя. Порождаемые отношениями имущественного неравенства, маски плодятся и множатся с поистине фантастической быстротой. Образ денежного магната Эндрью Ленгдона из сатирического рассказа «Письмо ангела-хранителя» (1887), «замаскированного негодяя», чье каждое вслух произнесенное слово находится в противоречии с «тайными молениями» его сердца, обладает огромной обобщающей широтой. Это портрет целого мира, где все вещи живут не под своими именами, где ханжество именуется религией, злоба — добротой, скаредность — щедростью, и все это нагромождение лжи в целом — демократией. Развитию жизни, вольному, как течение Миссисипи, поставлена неодолимая преграда. Эта мысль подтверждается не только прямым содержанием сатирических рассказов Твена, но и самой манерой повествования. Буйное цветение художественного слова, столь характерное для юмористических произведений Твена, здесь как бы насильственно прекращено. Изложение событий нередко носит нарочито протокольный характер. «Письмо ангела-хранителя» написано в манере канцелярского отчета, рай, как и вся система мироздания, бюрократизировался, в нем уже не совершается ничего неожиданного и непредусмотренного, происходящие здесь «чудеса» — мизерны и жалки. Они измеряются масштабами личности того же Эндрью.
Становясь ведущей темой сатирических рассказов Твена, тема масок, фикций, подделок варьируется в них на множество ладов[93]. Под этим знаком Твен пересматривает и собственные, ранее созданные произведения. Возвращаясь к своим прежним сюжетам, он вносит в них изменения, продиктованные его новым взглядом на вещи. В таком преображенном виде воскресает, например, сюжетная схема «Принца и нищего», костяк которой четко вырисовывается в сатирической повести «Простофиля Уилсон» (1894). История двух мальчиков, поменявшихся местами, приобретает здесь характерную американскую окраску. Негритянка Роксана, подменившая хозяйского младенца своим собственным, сама того не ведая, продемонстрировала бутафорскую сущность юридических установлений США, основой которых являются расистские предрассудки. Расовые различия — такая же фикция, как различия сословные, и понятие «негр» столь же условно, как европейские титулы, с их выдуманными номенклатурными обозначениями.
Иллюзорный характер расистских измышлений в повести Твена раскрыт с особой наглядностью, ибо здесь они не подтверждаются даже различиями внешнего порядка: оба мальчика — белые, и один из них считается «цветным» только потому, что в его жилах течет одна тридцать четвертая часть негритянской крови. Его мнимая расовая неполноценность — ярлык, прилепленный к нему извне, столь же неорганический элемент его личности, как королевская одежда Эдуарда Тюдора. Сравнение это в данном случае подсказано самим автором повести: подмена здесь совершается посредством «переодевания». Рокси наряжает своего сына в рубашечку господского отпрыска, и это определяет весь характер дальнейшей жизни детей.
Трагизм подобного социального эксперимента заключается отнюдь не в том, что блага жизни распределяются между героями не по праву и достаются не тому, для кого они предназначены обществом. Маска в повести Твена играет роль значительно более зловещую, чем в его исторической сказке. Она обладает огромной цепкостью и непоправимо калечит и уродует сознание человека.
В повести «Простофиля Уилсон» гибельные последствия социального маскарада оказываются неискоренимыми. Организованное Уилсоном торжество справедливости, в результате которого «негр» и «белый» вновь меняются местами, лишь доказывает необратимость их нравственных потерь. Изуродованные противоестественностью своего общественного положения, они и в новых жизненных условиях остаются рабовладельцем и рабом. Одному из них — сыну Роксаны — навсегда суждено быть паразитом и тунеядцем, а другому — юному Дрисколу — забитым и запуганным существом, и никакие механические перестановки не смогут изменить это положение вещей. Янки, герой предшествующего произведения Твена, утверждал, что в мире, где господствуют отношения общественного неравенства, «касты и ранги, человек никогда не бывает вполне человеком, он всегда только часть человека». Все происходящее в «Простофиле Уилсоне» подтверждает это. Ярлык, прочно прилепившийся к единственному умному человеку из обитателей захолустного южного городка, характеризует не столько самого Уилсона, сколько его жизненное окружение, состоящее из людей, пораженных своего рода духовной глухотой. Начисто лишенные чувства юмора (качество, которое для великого юмориста Твена служит своеобразным мерилом внутренней жизнеспособности человека), они оказались неспособными понять невинную остроту Уилсона и заклеймили его прозвищем «пустоголовый».
Механическая, мертвая цивилизация плодит полумертвых людей, в душах которых постепенно глохнут живые струны. Америка поистине превращается в гигантский «некрополь». Мотив этот, впервые прозвучавший еще в «Жизни на Миссисипи», в поздних произведениях Твена разрастается до масштабов иронической симфонии. Предприимчивый полковник Селлерс, вновь возрожденный Твеном в его повести «Американский претендент» (1892), остро ощущает кладбищенскую атмосферу жизни своей страны и на сей раз именно с нею связывает свои надежды на обогащение. Все его головокружительные проекты строятся вокруг одной и той же идеи — гальванизации мертвецов. Завладев его сознанием, она воплощается во множестве вариантов, каждый из которых, по непоколебимому убеждению их автора, должен способствовать не только преуспеянию самого Селлерса, но и страны в целом. В самом деле, разве плохо было бы заменить полисменов, которые уже и сейчас находятся в состоянии полной духовной смерти, настоящими покойниками? «Ведь это несомненно сократит расходы по их содержанию!» «В Нью-Йорке имеется две тысячи полисменов, — деловито разъясняет Селлерс. — Каждый из них получает четыре доллара в день. Я поставлю на их место моих покойников и возьму за это в два раза дешевле» (7, 33). Еще большей широтой и смелостью отличается задуманная им реорганизация конгресса. «Я извлеку из могил опытных государственных деятелей всех веков и народов, — вдохновенно вещает «великий реформатор», — и поставлю нашей стране такой конгресс, который будет хоть что-то смыслить, а этого не случалось со времени провозглашения Декларации независимости и не случится, пока этих живых мертвецов не заменят настоящими» (7, 34). Как явствует из этих рассуждений, некрофильские вдохновения Селлерса опираются на тенденции реального развития американской действительности.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.
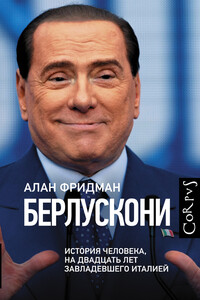
Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.
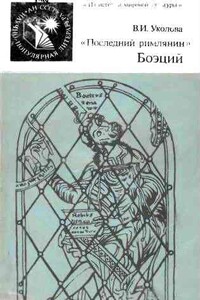
Работа посвящена знаменитому римскому философу, поэту и политическому деятелю конца V-начала VI в., сыгравшему исключительную роль в развитии средневековой культуры и в течение многих веков являвшемуся своеобразным эталоном нравственности и высокого служения идее. В книге ярко отражена переломная эпоха, когда рушился античный и рождался средневековый мир, подробно описана драматическая судьба Боэция, охарактеризованы его сочинения, показано его влияние на европейских мыслителей и поэтов эпохи Возрождения и нового времени.
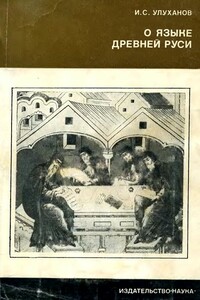
В книге рассматривается формирование и развитие основных разновидностей письменного и устного языка Древней Руси с XI по XVII в. Автор показывает, как взаимодействовали книжные и народно-разговорные элементы языка, изменялось значение слов, сменялись одни грамматические формы другими. Отрывки из памятников, приводимые в книге, подобраны таким образом, чтобы читатель мог реально представить себе язык разнообразных по жанру письменных памятников Древней Руси и устную разговорную речь. Явления языка рассмотрены в тесной связи с такими социально-культурными явлениями, как формирование древнерусского государства, появление письменности, развитие связей со славянским югом, Византией, Западной Европой.
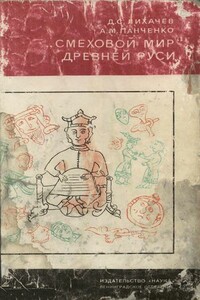
Авторы данной книги сделали попытку подойти к смеху как к явлению истории человеческой культуры. В этой книге рассматривался не столько сам смех, сколько его движущая сила в человеческом обществе. Авторы попытались дать предварительную характеристику «смехового мира» в одной из значительнейших мировых культур — культуре Древней Руси.
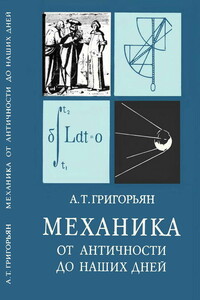
Книга состоит из очерков, популярно излагающих историю эволюции теоретической механики от античности до наших дней. Она включает очерки античной механики, механики средневекового Востока и Европы эпохи Возрождения, механики XVII — XX вв. Отдельные главы посвящены достижениям механики в России и СССР. В книге рассматриваются классические понятия массы, силы, импульса, скорости, ускорения и т. д.