Марк Твен - [2]
Человек, начинающий строить жизнь в изоляции от всего предшествующего опыта истории, мог ощущать себя неким, только что сотворенным Адамом[3], в первозданной «невинности» которого таились возможности еще невиданных творческих свершений.
Так, рядом с общественным идеалом и в тесном взаимодействии с ним формировалась и идеализированная концепция национального характера. Общество, возникающее на основе законов природы, получало опору в лице природного, «естественного человека», усовершенствованным и улучшенным образцом которого должен был стать каждый «истинный американец». Этот формирующийся комплекс американизма с его наивной и философски примитивной идеей «невинности» как национально-характерного, специфически «местного» состояния человеческой личности «органично увязывался со всем каноном буржуазно-демократических иллюзий»[4]. Укрепляя их, он в то же время потенциально подводил базу и под индивидуалистические устремления рождающегося общества свободной конкуренции. С этим связана и двойственность его исторической роли. Став элементом «американской мечты», американизированная просветительская утопия разделила ее (в целом, трагическую) судьбу. В ходе истории она постепенно перерождалась в философию буржуазного индивидуализма[5] и прагматизма, продолжая одновременно свою жизнь и в формах, близких к первоначальным. Ее связь с идеалами американской демократии, оплотом которой служила революционная традиция США, не прерывалась до конца. Рожденная под знаком освободительного движения конца XVIII в., концепция личности и государства, не теряя своей просветительской окраски, становилась точкой отсчета для измерения дистанции между мечтой Америки и ее реальной действительностью. А дистанция эта неуклонно увеличивалась. Гармонический союз бога, человека и природы распался уже при первом соприкосновении с жизненной реальностью. «Бог» оказался системой деспотических пуританских запретов, «человек» — буржуазным собственником, а «природа» — объектом его хищнической деятельности.
Попытки насаждения «совершенной» цивилизации в США сразу же привели ее к необычайно острому конфликту с природой. Жизненная конкретность и наглядность этой глубоко трагической коллизии поистине не имела параллелей в европейской истории XIX в. (а соответственно и в мировой литературе).
Американский Адам не ограничился истреблением тысячелетних лесов своего первооткрытого Эдема. Он вступил в яростную борьбу с теми народами, которые в просветительской и политической литературе Европы обычно фигурировали в качестве классической нормы естественности. Индейцы и негры, еще не изжившие своих патриархальных традиций, в Америке являлись не поэтически отвлеченными абстракциями, а вполне реальными жертвами ее цивилизации. Они изгонялись из своих законных убежищ, западных прерий и джунглей Африки, их истребляли в резервациях, ими торговали на невольничьих рынках, их истязали на плантациях Юга.
Весь ход развития американской цивилизации приводил передовую мысль Америки к осознанию руссоистского конфликта «природа и цивилизация». Немудрено, что эта проблема заняла важное место в национальном искусстве и ее влияние отнюдь не ограничивалось пределами одной романтической эпохи[6]. Конфликт «природа и цивилизация» стал постоянной темой литературы США и, претерпев множество трансформаций, превратился в один из ее внутренних стержневых мотивов[7]. Истоки его можно обнаружить уже у Фенимора Купера. Образы его романтических индейцев, безжалостно истребляемых их «бледнолицыми» завоевателями, — красноречивое свидетельство тех невозместимых нравственных потерь, которые являются неизбежными спутниками победного шествия буржуазной цивилизации. В ходе дальнейшего развития американской литературы куперовская традиция, став одним из характерных ответвлений национальной, обогатилась множеством новых оттенков. Преемниками куперовских «детей природы» оказались и таитяне Германа Мелвилла, и индейцы Джека Лондона. Параллельно с куперовскои трактовкой темы существовали и другие пути ее решения. Отнюдь не теряя своей жизненной остроты, проблема издержек прогресса постепенно освобождалась от географической и этнографической экзотики. Антиприродная сущность буржуазной цивилизации, ее разрушительное воздействие на внутренний мир человека, ее несовместимость с естественными движениями человеческой души прослеживались на примере судьбы рядового американца.
В творчестве таких писателей, как Натаниель Готорн и Эдгар По, проблема «цивилизация и природа» по существу перерастает в еще более широкую проблему — «цивилизация и жизнь». Цивилизация становится у них орудием удушения живой жизни, тормозом в ее развитии, и их произведения фиксируют разные стороны этого процесса. Если в романах и рассказах Готорна средством умерщвления жизненных импульсов является бездушная пуританская мораль, то у Эдгара По в такой роли выступает вся система отношений цивилизованного общества. Рационалистически упорядоченный, технифицированный и математизированный буржуазный мир в его произведениях оборачивается царством безумия и смерти, в котором негде приютиться жизни даже в самых скромных и непритязательных ее проявлениях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
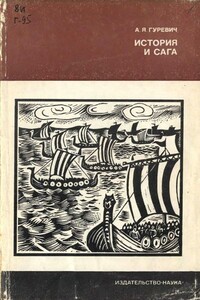
На протяжении многих столетий исландский народ играл роль хранителя культурных традиций древней Скандинавии, развивал и обогащал их. Среди произведений средневековой скандинавской литературы видное место занимает сочинение крупнейшего исландского историка Снорри Стурлусона «Хеймскрингла» («Саги о норвежских конунгах»), в которой изображена история Норвегии и других стран Северной Европы, а также содержится много сведений о соседях скандинавов, в том числе и о Руси. «Хеймскрингла» представляет большой интерес не только как исторический источник, но и как памятник скандинавской культуры, запечатлевший специфическое мировосприятие, отношение к времени, к человеческой личности, восходящие к эпохе викингов этические ценности и нормы поведения.
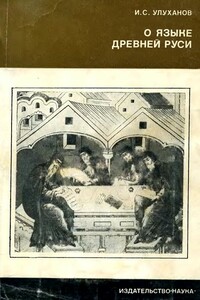
В книге рассматривается формирование и развитие основных разновидностей письменного и устного языка Древней Руси с XI по XVII в. Автор показывает, как взаимодействовали книжные и народно-разговорные элементы языка, изменялось значение слов, сменялись одни грамматические формы другими. Отрывки из памятников, приводимые в книге, подобраны таким образом, чтобы читатель мог реально представить себе язык разнообразных по жанру письменных памятников Древней Руси и устную разговорную речь. Явления языка рассмотрены в тесной связи с такими социально-культурными явлениями, как формирование древнерусского государства, появление письменности, развитие связей со славянским югом, Византией, Западной Европой.
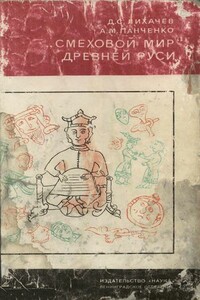
Авторы данной книги сделали попытку подойти к смеху как к явлению истории человеческой культуры. В этой книге рассматривался не столько сам смех, сколько его движущая сила в человеческом обществе. Авторы попытались дать предварительную характеристику «смехового мира» в одной из значительнейших мировых культур — культуре Древней Руси.
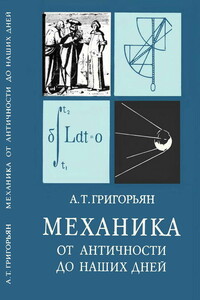
Книга состоит из очерков, популярно излагающих историю эволюции теоретической механики от античности до наших дней. Она включает очерки античной механики, механики средневекового Востока и Европы эпохи Возрождения, механики XVII — XX вв. Отдельные главы посвящены достижениям механики в России и СССР. В книге рассматриваются классические понятия массы, силы, импульса, скорости, ускорения и т. д.