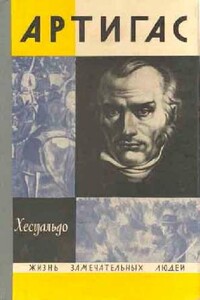Марат - [4]
Прошло двадцать семь лет — и каких лет! — перевернувших всю Европу и мир!
И вот в 1811 году бывший женевский радикал, стремившийся все ниспровергнуть, на торжественной церемонии открытия лицея в Царском Селе, освященной личным присутствием императора Александра I, предстал в образе располневшего пожилого господина небольшого роста, прикрывавшего лысину старомодным напудренным париком, чиновника седьмого класса и профессора французской словесности.
Его не звали больше Давид Мара. Он именовался теперь Давыдом Ивановичем Будри. Это изменение имени и фамилии объяснялось не только тем, что бывший гражданин города Женевы с 1806 года стал официально подданным русского императора.
Не было ничего удивительного в том, что Давид, сын Жана, стал в России Давыдом Ивановичем. Но название маленького, почти неведомого в России швейцарского городка, заменившее подлинную фамилию бывшего швейцарского радикала, скрывало за собой весьма многое.
Поступив на цареву службу и не без успеха продвигаясь по служебной лестнице, обретя ряд орденских лент и чин коллежского советника, бывший гражданин Швейцарской республики ни на минуту не забывал, что он остается братом столь знаменитого человека, что самое имя его нельзя было произносить, — настолько оно казалось страшным и даже кощунственным.
Сейчас трудно установить, когда именно Давид Мара решился отречься от имени своего отца и брата; имеются сведения, что это произошло в 1793 году; по свидетельству Пушкина, «Екатерина II переменила ему фамилию по просьбе его…». Очевидно, неудобства, проистекающие оттого, что он носил ту же фамилию, что и ставший знаменитым Жан Поль Марат, он в возрастающей степени ощущал по мере того, как росла слава Друга народа.
Но, отказавшись от своей кровной, унаследованной от предков фамилии и решившись замаскировать ее таким именем, которое бы никак, фонетически во всяком случае, не напоминало страшного имени Марата, бывший радикал, может быть, не без тайного озорства и злорадства выбрал название того безвестного городка, в котором родился его страшивший всех брат, — Будри.
Кавалер де Будри, затем Давыд Иванович Будри, профессор патронируемого самим императором Александром Царскосельского лицея, мог спокойно продолжать свое неспешное восхождение по лестнице служебной иерархии, не опасаясь, что кто-либо узнает в нем брата «цареубийцы» и самого ненавистного монархам и господам вождя «страшной революции» восемнадцатого столетия.
Но один из лицеистов, учеников Давыда Ивановича Будри, относившийся именно к этому своему учителю с искренними симпатиями и уважением, Александр Пушкин, позднее записал: «Он очень уважал память своего брата».
Действительно, этот внешне несколько мешковатый и старомодный профессор словесности, умевший и начальству угодить и написать специальное посвящение царю Александру на изданной им французской грамматике, этот не лишенный ловкости придворный был вовсе не прост и при более близком знакомстве оказывался совсем не тем, чем он представлялся с первого взгляда.
Былой демократ и радикал, оказавшись в необходимости приспосабливаться к окружавшему его миру самодержавно-крепостнической России, в тайниках своей души сохранял теплую память о бурных днях своей мятежной молодости, о родственных связях, которые ему — наедине с самим собой — отнюдь не казались столь крамольными.
Обо всем этом, оставшемся для него самым дорогим на всю жизнь, нельзя было вслух говорить, нельзя было даже вспоминать. Коллежский советник Давыд Иванович Будри, никогда бы не решился назвать себя громко тем именем, которое звучало в тиши для него так гордо — Давид Марат.
Впрочем, от некоторых своих учеников, пользующихся полным его доверием — в их числе был и юный Пушкин, — он не считал нужным скрывать ни своих былых связей со знаменитым братом, ни своего образа мыслей» Во всяком случае, Пушкин в своей небольшой заметке о Будри упомянул и об его рассказах о брате и отметил не только его «наружность, напоминавшую якобинца», но и «демократические мысли» профессора французской словесности.
Но об этом Давыд Иванович Будри мог говорить лишь с избранными, и очень редко.
Биографы Пушкина, исследователи лицейского периода его жизни отмечают, что с наибольшим интересом и вниманием он слушал лишь лекции Будри и другого «словесника» — Кошанского.
К чести Давида Мара-Будри следует отнести и то, что он, отличаясь большой строгостью в оценке знаний и способностей лицеистов, сумел понять и высоко оценить дарование будущего великого русского поэта. Уже подводя итоги за первый год лицейского обучения, Будри дал такое заключение о Пушкине: «Считается между первыми во французском классе; весьма прилежен; одарен понятливостью и проницанием».
Но, видимо, отношения между профессором французской словесности и какой-то частью его учеников (надо полагать, лучших, тех, кого он ценил и кому доверял), не ограничивались только узкоакадемической сферой.
Не сохранилось никаких проверенных фактов или достоверных сведений, позволяющих составить мнение о других членах семьи — детях Жана и Луизы Мара.
Все, что известно о Мари, об Анри, о Жане Пьере, — это даты их рождения и смерти (об Анри даже нет точных данных о времени его смерти). Жан Пьер, по утверждениям Шевремона — самого добросовестного и осведомленного биографа Ж. П. Марата в девятнадцатом веке, стал впоследствии владельцем предприятия, производящего часовые стрелки и компасы. Этого слишком мало, чтобы составить хоть приблизительное представление о человеке.
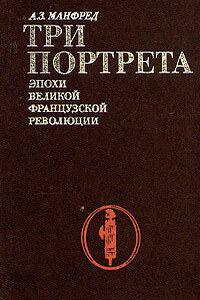
Книга выдающегося историка А. 3. Манфреда посвящена историческим судьбам трех крупнейших деятелей эпохи Великой французской революции: Руссо, Мирабо и Робеспьера. Деятельность этих ярких представителей французского общества XVIII века наиболее отчетливо выражает самые существенные особенности общественно-политического развития Франции той переломной эпохи.Монография представляет собой ценный вклад в исследование истории и культуры Франции.
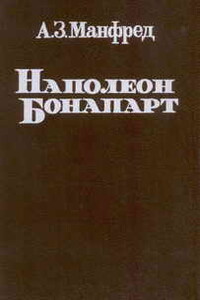
Книга доктора исторических наук А. 3. Манфреда — это политическая биография французского буржуазного государственного деятеля и полководца Наполеона Бонапарта. Опираясь на обширный, во многом малоизвестный документальный материал, автор рассказывает об основных событиях и фактах того времени, об окружении Наполеона, о секретах его триумфов и причинах поражений.Печатается по изданию: А. 3. Манфред. Наполеон Бонапарт. Четвертое издание. — Москва: издательство «Мысль», 1986 г.
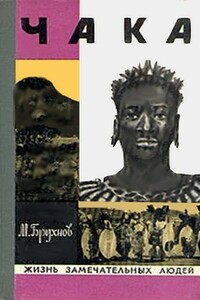
Огромное личное мужество, блестящий организаторский и полководческий талант позволили Чаке, сыну вождя небольшого племени зулу, сломить раздробленность своего народа. Могущественное и богатое государство зулусов с сильной и дисциплинированной армией было опасным соседом для английской Капской колонии. Англичанам удалось организовать убийство Чаки, но зулусский народ, осознавший благодаря Чаке свою силу, продолжал многие десятилетия неравную борьбу с английскими колонизаторами.

Во втором томе Собрания сочинений Игоря Чиннова в разделе "Стихи 1985-1995" собраны стихотворения, написанные уже после выхода его последней книги "Автограф" и напечатанные в журналах и газетах Европы и США. Огромный интерес для российского читателя представляют письма Игоря Чиннова, завещанные им Институту мировой литературы РАН, - он состоял в переписке больше чем с сотней человек. Среди адресатов Чиннова - известные люди первой и второй эмиграции, интеллектуальная элита русского зарубежья: В.Вейдле, Ю.Иваск, архиепископ Иоанн (Шаховской), Ирина Одоевцева, Александр Бахрах, Роман Гуль, Андрей Седых и многие другие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.