Мандустра - [7]
Я сижу здесь —
на завалинке занявшейся зари, в безлобом балконе себя, пусть без тебя, во рту у Бога и среди кастрюль; и вот — Синий Предмет приемлет меня, я плюю на остальное, что где-то есть, и удаляюсь туда, откуда я смогу крикнуть в ближайший населенный пункт свое короткое слово.
УДАЛЕНИЕ В СИНИЙ ПРЕДМЕТ II
Синева переполняет душу одного из многочисленных индивидов, когда-либо существовавших. Сидя посреди заброшенных технических пейзажей, на деревянных занозах или же хладе превращенных в металл руд, он задом чувствует свой кратковременный отдых, будто на каторге; поскольку потом нужно встать и заняться. Неожиданно отнеся груз, поймав минутную дрему до следующей работы, он в это время будто возносится куда-то спиралеобразно, и там — мир ласковых, скатертных, яичных предметов, и сервизы салатного цвета с золотым ободком, и синь переходит в лиловый цвет, и все чинно.
Будто его приемлет домашний молочник, который, как сахар дождя, семья качелей, шипение кофе в соединении со снегом, любовь к синеглазке, гном уютного великолепия!
Он вырос для того, чтобы трудиться, и все равно не хочет участвовать. Ему дан мир, и он готов сузить каждый предмет до присущей только ему изначальности, далее предмет неразложим, хотя им можно пренебречь; и вот он видит многообразие различных именных вещей и их взаимодействия друг с другом. Надоело, однако, соединять несоединимое — достаточно провозгласить этот принцип, чтобы было все ясно. Скиния собрания в яичнице хотя и смешна, но слишком ясна. И все это возможно под луной.
Сколько можно составлять реальностей, используя имена и страны? Твори, но кувалда сама идет тебе в руки. Игра в бисер не нужна даже игроку.
Так что же тогда? А ничего, блаженное ничто, предмет, куда можно удалиться от всех прочих предметов. И если он есть, и мир, который, наверное, есть, гораздо сложнее, чем их религиозный портрет, уж никак не вписывается в одну только мистерию.
Кто-то сидит на завалинке стоящей работы и думает, и может думать так пятьсот, тысячу, девятьсот лет. Если кувалду представить в качестве кувалды и назвать это искусством, то герменевтическое содержание этого акта будет, ей-богу, небольшим. Поэтому остается уйти и заткнуться где-нибудь в мрачном закутке, где сидят люди, перекуривая, и мечтают о сне.
И пусть поэтическое раздумье будет их охватывать при виде мрака надвинутых на лоб сумерек, они имеют мужество, чтобы не скучать там, где все по-старому, и ничего нового не ожидается, они полны собой — эти несчастные люди, своими чувствами и трагедиями; они могут жить, и кто-то даже в грезах своих попадет на графский стол, где стоит кофейный завтрак со сливками, а кто-то может присутствовать здесь наподобие деревянного столба и не наблюдать интересных переживаний в своей голове; но они передают эстафету дальше, а мне остается соединять слова, и без посредства ритма; и может быть, рой смыслов в этих самых словах будет дополнительным эстетическим средством, которым многие пренебрегали.
Осталось не так долго, и в конце концов — дай мне свой пыл, старая любовь!!! Плюю на слово, и хочу веселья сопоставления фантазий. Я создавал пустоту, описывая синий предмет, я балансировал на канате, цепляясь за хитрые построения, но описывал слишком конкретные вещи.
И он сидит пока еще, молодой усталый человек, погруженный в личные словесные фантазии, обдумав невозможный почему-то метафизический комфорт, и улыбается мне и пропадает в синем небе. А я остаюсь здесь и даю тебе свою душу за каплю фантазии и согласен на полную смерть, хотя и удаляюсь в синий предмет — пускай это будет моим временным пустым прибежищем.
КОГДА СХЛЫНЕТ ПУСТОТА
В этом расстройстве стволов, которые, накренившись один на другой, завершали пейзаж, было что-то от блеска накрашенных попугаев. Мой стол тоже дружелюбно светил коричневым сверканием, и даже бабочка, что уселась сбоку, переливалась цветочными свечами, о чем засвидетельствовал приятный сосед с трубкой. Он вырисовывался на общем фоне — гора пепла дымилась, словно Фудзияма, а в руках его небрежно посвистывали бешеные карты червей.
— Выходите из тупика, словно Будда — наискось и вперед.
— Вы узнаете морских животных, которые, как кофе, ждут своего часа.
— Что вы можете мне предложить? — с любопытством нагнулся я к пирогу, потом вдруг превратился в плоскую фигуру и ступил в неизведанные области промежности скатерти и стола.
Бабочка засияла, как новогодний подарок, а обилие дворцов кругом заставляло меня представить, что в них можно будет поспать. Человек — тоже люди, и я уснул, благополучно согнувшись пополам в одной из маленьких комнат загородной виллы.
Пробуждение было беспримерным — все оказалось лишь сном.
Бабочка поцеловала мою ручку и сказала:
— Все, что вы, наверное, хотели поведать мне о своем существе… Впрочем, отдыхайте. Вы знали, что бабочки — это сексуальные животные? Я — половая, я — твоя, милый…
Она застрекотала на меня, а тот, кто был мертв, лишь холодно улыбнулся, глядя на чудачества наши.
— Бросайтесь на что-нибудь, все равно, куда.
— Вы увидите то же самое, как и думали.
— Невозможно же быть таким автоматом? — ознакомился я с меню жизни.

В сборнике представлены три новых произведения известного многим писателя Егора Радова: «Один день в раю», «Сны ленивца», «Дневник клона». Поклонники творчества автора и постмодернизма в целом найдут в этих текстах и иронию, и скрытые цитаты, и последовательно воплощаемые методы деконструкции с легким оттенком брутальности.Остальным, возможно, будет просто интересно.
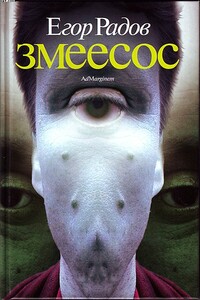
«Змеесос» — самый известный роман Егора Радова. Был написан в 1989 году. В 1992 году был подпольно издан и имел широкий успех в литературных кругах. Был переведен и издан в Финляндии. Это философский фантастический роман, сюжет которого построен на возможности людей перевоплощаться и менять тела. Стиль Радова, ярко заявленный в последующих книгах, находится под сильным влиянием Достоевского и экспериментальной «наркотической» традиции. Поток сознания, внутренние монологи, полная условность персонажей и нарушение литературных конвенций — основные элементы ранней прозы Радова.Перед вами настоящий постмодернистский роман.

...Однажды Советская Депия распалась на составные части... В Якутии - одной из осколков Великой Империи - народы и партии борются друг с другом за власть и светлое будущее... В романе `Якутия` Егор Радов (автор таких произведений как `Змеесос`, `Я`, `Или Ад`, `Рассказы про все` и др.) выстраивает глобальную социально-философскую, фантасмагорию, виртуозно сочетая напряженную остросюжетность политического детектива с поэтической проникновенностью религиозных текстов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рожденная на выжженных берегах Мертвого моря, эта книга застает читателя врасплох. Она ошеломляюще искренна: рядом с колючей проволокой военной базы, эвкалиптовыми рощицами, деревьями — лимона и апельсина — через край льется жизнь невероятной силы. Так рассказы Каринэ Арутюновой возвращают миру его «истинный цвет, вкус и запах». Автору удалось в хаотическом, оглушающем шуме жизни поймать чистую и сильную ноту ее подлинности — например, в тяжелом пыльном томе с золотым тиснением на обложке, из которого избранные дети узнают о предназначении избранной красной коровы.

Повесть — зыбкий жанр, балансирующий между большим рассказом и небольшим романом, мастерами которого были Гоголь и Чехов, Толстой и Бунин. Но фундамент неповторимого и непереводимого жанра русской повести заложили пять пушкинских «Повестей Ивана Петровича Белкина». Пять современных русских писательниц, объединенных в этой книге, продолжают и развивают традиции, заложенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Каждая — по-своему, но вместе — показывая ее прочность и цельность.
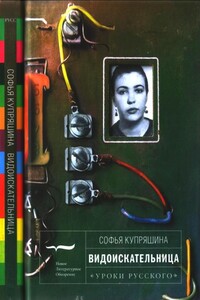
Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.