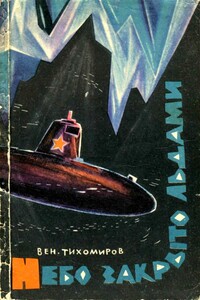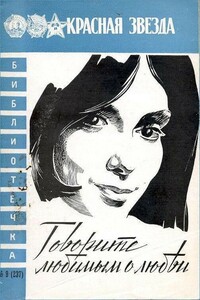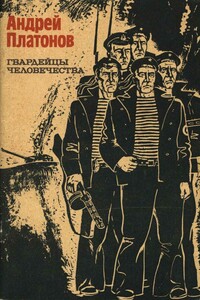— Вот будет борода! Не то, что та, овечья…
— Да ведь Егор Мерик не седой.
— Поседеешь тут с вами.
Наконец все готово. Зазвенел звонок, и занавес раздвинулся. Как играли артисты, судить зрителям. А зрители молчали. Тишина стояла в зале такая, что даже слышно было, как потрескивает фитиль в лампе. Худо ли, хорошо ли действующие лица ходили по сцене, так или иначе жестикулировали, впопад или невпопад подавали реплики. Зрители слышали не столько артистов, сколько суфлеров, но они думали, что так и надо.
На сцене появилась Макора, чудно разодетая, красивая, статная, в городской шляпке под вуалью. Женщины в дальнем углу приглушенно зашептались:
— Гляди-ко, гляди, Макора…
— А почто, бабы, у нее мерёжа-то на лбу?
— Эко, не знаешь! Для важности.
А Макора как вышла да увидела полный народу зал, так и потеряла дар речи. Хочет слово сказать — не может. Забыла, что и говорить, все из головы вылетело. Стоит молчит и совсем не кстати улыбается. Суфлер шипит на нее, злится, показывает кулаки, а она и внимания не обращает. Молчит, улыбается. Екатерина Ивановна из-за кулис ей шепчет:
— Макора, очнись, не стой столбом.
До нее и это не доходит.
И тогда вскакивает с нар Егор Мерик с огромной бородой из еловой кухты, с топором в руке, разъяренный, что зверь, и совсем не по ходу пьесы кричит на Макору:
— Чего же ты стоишь, проклятая!
Он замахивается топором, ребята, изображающие голодранцев на нарах, вскакивают, хватают его за руку, вырывают топор. Кто-то догадывается задернуть занавес. Все в отчаянии, кроме публики. Та довольна: здорово получилось! И впрямь Митя чуть не зарубил Макору, как и сказывали раньше. Да, поди, и зарубил бы, не выхвати у него топор. Горячий парень. И разозлился, видать, здорово. За что, не понятно, но, верно, за дело. А артисты разбрелись по домам, стараясь не попадаться друг другу на глаза.
6
Макора обходила Митю стороной, боялась с ним встречаться. Она считала себя виновницей всех бед, случившихся в тот вечер в клубе. Глупая, глупая! Зачем надо было браться за то, чего не умеешь? Вот и поделом, осрамила себя. Да то бы полбеды, ребят подвела — вот главное. А перед Митей она чувствовала особую вину: ведь он ее уговорил участвовать в спектакле, значит, на него теперь и шишки сыплются. Не успевает, наверно, собирать. Но говорят: тесен белый свет. А Сосновка и того теснее. Пришлось им столкнуться на паузке[17] лицом к лицу. Митя возвращался со станции. Он легко спрыгнул с причального мостика на зыбкий настил паузка. А за ним шла женщина с тяжелым лукошком, полным груздей. Она поскользнулась — и лукошко упало, часть груздей рассыпалась. Митя бросился помогать, сложил выпавшие грибы в лукошко, поднял его. И тут узнал Макору. Она смутилась.
— Ой, что ты, Митя, я бы сама…
Митя вынес лукошко с паузка, поднялся с ним на крутик и нес до самой Сосновки. Макора долго искала слова, чтобы, начав разговор о спектакле, покаяться в своей вине. А Митя, когда она об этом сказала, уставился на нее.
— Да о чем ты, Макора? Все мы одинаково наглупили…
Он, смеясь, рассказал, как ждал своего выхода, твердил первые слова роли, забывал их внезапно, с трудом вспоминал и снова забывал, а сам дрожал, будто от озноба.
— А когда с тобой случился тот столбняк, я, сам не понимая, что делаю, бросился с топором…
— Митенька, ведь ты мог бы меня и зарубить? — почти шепотом спросила Макора.
— А что думаешь, все могло быть. Ну, не помню себя, ровно рассудка лишился.
Они минуту шли молча. Митя переложил лукошко на другое плечо.
— А все-таки нам надо поставить спектакль. Неужели мы такие размазни, что не сможем взять себя в руки! — Митя рассмеялся. — Теперь опыт есть. А с опытом лучше. Ты как, Макора, согласишься на новый спектакль?
— Будете начинать, так скажите, — просто ответила Макора.
— Не побоишься?
Она прикрылась концом полушалка, а глаза все равно выдавали улыбку.
— Стану опять посередь сцены, опущу руки, остолбенею… Ты уж с топором-то не выбегай. Хоть дровокольную палку прихвати, что ли…
Глава тринадцатая
ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР НАЕДИНЕ
1
Комитет бедноты добрался, наконец, и до Ефимова заведения. Как с ним быть, думали долго. Махорочного едучего дыму напустили столько, что, пожалуй, не топор, а пудовую гирю повесь, так она закачается на сизых волнах, словно пробочный поплавок. Вынесли резолюцию: окулачить. Кожевню отобрать. Белоглазому дать твердое задание.
Когда Синяков с понятыми пришел на кожевню, Бережной перебирал в уголке малую кипу выделанных кож. Оглянув заведение, председатель пожал плечами: пусто. Ни сырых шкур, ни готового товара. Инструменты валяются в беспорядке, где попало. Заглянули в чаны — и там нет ничего. Синяков вопросительно посмотрел на понятых. Те пожимали плечами. Он подошел к Бережному.
— Что-то я не вижу вашей продукции, Егор Павлович?
Егор старательно отковыривает насохшую корочку дубильной грязи со своего огромного кулака, не спешит с ответом.
— Тут все, товарищ председатель, — кивает он на кожи, что сейчас перебирал. — Больше нет…
— Плохи ваши дела, — иронически покачал головой председатель. — Кеша, переписывай, что оказалось, да пойдем к самому. С батрака какой спрос. Он дальше носа своего и не видит.