Мафтей: книга, написанная сухим пером - [4]
— Кто же надоумит меня, как вести свой сказ? — не унимался я в растерянности.
— Как писать… Слышишь тюканье древоделов, которые цифруют[2] церковь в Замлине? Слышишь перепевы топориков: одна затесь, другая затесь, третья — и дерево покрывается резьбой… Пиши затесями — коротко и остро, как дерево рубишь. Нарезай слова из твердого материала и складывай их в плотные, недвижимые ряды… Пиши, помня: слово, лишенное любви, невыразительное и пустое.
Вода гладко разносила звук топоров и долот. А мой нос угадывал, что дергали бревна чуть привядшего ясеня. За кривулей реки, недалеко от Аввакумового скита, виднелся седой крест. Берег кипел мелким лиловым цветеньем. Весь простор оделся в цвета пестрой зелени. Все, кроме яблони-кормилицы над его пещерой. На Покров дерево засохло да так и не ожило в яри[3]. Ворона летала над крестом и садилась то на одно, то на другое плечо. Я понимал, о чем говорит сей знак, и печально молчал. Уходил наставник моего земного следа, мой сердечный советник и друг. Кто будет направлять мое движение дальше? Никто, кроме Господа.
Кончик посоха, не находя более желудей, отыскал ямку в зыбкой доске. Трухлявое дерево легко долбилось.
— Этот мост скоро упадет, — печально молвил пещерник.
Я кивнув головой. Мне не жаль было Гнилого моста. Жаль было другое. Гнилой мост — это мое просвещение. Мой мостик над водой в мир, из глубины старовека — к простору мысли. Тут проходили наши с ним часы, пронизанные счастьем познания. Но теперь не об этом речь…
В тот предсказанный день, в последний раз молча поклонившись, Аввакум пошел к своей мертвой яблоне. А я долго еще оглядывался на тощую, сломленную фигуру, поднимающуюся в гору. Уже тогда я точно знал, что человек этот и есть гора. И понимал, что он оставляет меня самого плавать на большой воде.
Лоза любит тень виноградаря. Так он сказал однажды. С тех пор я живу в его тени.
Так научи меня, Господи, косноязычного в слове и криворукого в писании, положить на бумагу эту исповедь, чтоб исполнить обет чтимому челядину[4], зиждителю сокровищ моей души и светлости любомудрия. Аминь.
Затесь первая
Вечерний визит
Возьму топоришку, срублю деревяшку.Пущу деревинке зелену кровинку.Излечи ты, кровушка, сердце изболевшее.Сдержу до конца я заветы отца.Стихоплет из Нижнего Шарда писал
Ежели мне судилось поведать это, то надлежит начать. С самого начала.
С высоты (или может, низины) своих злоключений смотрю я на то лето, аки на круг, что замкнулся ожерельем хлопотных дней, — их он отнял от сладкого отшельничества и окунул меня в суету мира. И я, к своему удивлению, поддался этому течению, сам себя оправдывая: если и бороться, то за добро, а не против зла. И пустился со своего нагретого Белебня, как старый орел, который тратит силу крыльев, зато владеет силой ветра.
Пережитое выветрится, как туча, а записанное останется духовным завещанием твоего сердца. Тоже слова Божьего челядина.
Моя обитель приколочена к побережью Латорицы ступнями моих прадедов, заговорена их живой беседой, что тянется из древних времен, как вода из-под кадуба[5]. Мое родовое наследство дедов, мой любимый мирок. Мы, Просвирники, издавна селились возле реки. Рыбы ели много — потому и умные, так люди говорят. Река и дерево мне носит. Бревна, облизанные водой, выбеленные солнцем и хрупкие, как ребра лесного скелета. На живое дерево я бы руку не поднял. Потому что, окромя добра, оно мне ничего не сделало. Есть недобрые люди, а деревьев плохих нет. С крутого Белебня по склону горы к моему дворищу скатываются яблочки, груши и сливы. А орехи сеют вороны. Что касается светских новостей, то их мне тоже приносит вода. Как и в тот раз…
На изломе мая, еще до молодого месяца, установилась теплая и ясная, как глаза ребенка, погода. Тепло уже вошло в силу — ярью полнился день. Ноги просились из обувки на волю. Нагретая плоть трепетала от кусающейся, как пчелиные жала, муравы. Э-ге-гей, моя травица-косица! Принимай меня еще одним кругом и неси на своей гриве в зеленое приволье, и не дай стоптаться прежде времени!
Когда Богу скучно, он открывает окно и смотрит на окраины Мукачева.
Тут и моя полнота сердца, свет очей моих. Тут и началось.
Я сидел возле фундамента, грел камень. Солнце теплой кистью рисовало медовые шнурки на моих веках, щекотало губы, как шаловливая девица. Поизносились, стали тонкими мои веки. Лучики сеются сквозь них, как сквозь крылышки стрекозы. Оно и не удивительно: семьдесят лет неуемно хлопать глазами, замечать неблагоприятное в мире, перецеживать зримое, впитывать глазами пространство и заключать в них загустевшее время… Вы, дедуля, говорят, и сквозь веки видите. Ведун! Смешные людишки. Им лишь бы до чудесного дотронуться. Хотя бы языком. Не дойдет до простых, что чудесное как раз без чудес. Не утолишь жажды чуда, пока сам не взлелеешь чудо в себе…
Живу я в Зареках сам, как нос на лице. Вверху чаща, сбоку — стены монастыря, внизу — кривуля реки с протоками, лайдами[6], заостровцами, висками, рукавчиками, подводными каргами, излучинами, изломами, коленцами… Я — как пустынножитель, окутанный заповедной защитой от мира. Время как будто забыло обо мне. Но не люди.
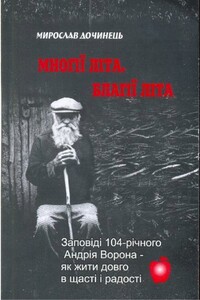
«Мы имеем уникальный, осмысленный и пронизанный истинной духовностью уклад жизни одного человека. Человека обычной и одновременно необычной судьбы. Это не просто бесценные крохи приобретенных знаний и умений мудрого старца, это Система. Выстроенная на тонкой интуиции и выверенная 100-летним опытом, она с пользой послужит каждому, в том числе и большой мере и нам медикам. Наследие А. Ворона расцениваю как свежую струю в современную диетологию, валеологию, социальную психологию и человековедение. Это следует читать внимательно и вдумчиво и перечитывать, мелкими глотками будто пьешь живую воду».

Это - исповедь великой души, документ мудрого сердца. Это — не просто описание исключительной судьбы необычного человека. Это - подарок судьбы для тех, кто спрашивает себя: «Кто я, откуда я, для чего я? И куда я иду?» Это письмо поможет обрести себя и укрепит в великом Переходе из ничего в нечто.

Героиня романа Инна — умная, сильная, гордая и очень самостоятельная. Она, не задумываясь, бросила разбогатевшего мужа, когда он стал ей указывать, как жить, и укатила в Америку, где устроилась в библиотеку, возглавив отдел литературы на русском языке. А еще Инна занимается каратэ. Вот только на уборку дома времени нет, на личном фронте пока не везет, здание библиотеки того и гляди обрушится на головы читателей, а вдобавок Инна стала свидетельницей смерти человека, в результате случайно завладев секретной информацией, которую покойный пытался кому-то передать и которая интересует очень и очень многих… «Книга является яркой и самобытной попыткой иронического осмысления американской действительности, воспринятой глазами россиянки.

В романе Сэмми Гронеманна (1875–1952) «Хаос», впервые изданном в 1920 году, представлена широкая панорама жизни как местечковых евреев России, так и различных еврейских слоев Германии. Пронизанный лиризмом, тонкой иронией и гротеском, роман во многом является провидческим. Проза Гронеманна прекрасна. Она просто мастерски передает трагедию еврейского народа в образе главного героя романа.Süddeutsche Zeitung Почти невозможно себе представить, как все выглядело тогда, еще до Холокоста, как протекали будни иудеев из России, заселивших городские трущобы, и мешумедов, дорвавшихся до престижных кварталов Тиргартена.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
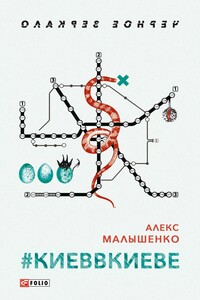
Считается, что первыми киевскими стартаперами были Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь. Они запустили тестовую версию города, позже назвав его в честь старшего из них. Но существует альтернативная версия, где идеологом проекта выступил святой Андрей. Он пришёл на одну из киевских гор, поставил там крест и заповедал сотворить на этом месте что-то великое. Так и случилось: сегодня в честь Андрея назвали целый теплоход, где можно отгулять свадьбу, и упомянули в знаменитой песне.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Харьков 1930 года, как и положено молодой республиканской столице, полон страстей, гостей и противоречий. Гениальные пьесы читаются в холодных недрах театральных общежитий, знаменитые поэты на коммунальных кухнях сражаются с мышами, норовящими погрызть рукописи, но Город не замечает бытовых неудобств. В украинской драме блестяще «курбалесят» «березильцы», а государственная опера дает грандиозную премьеру первого в стране «настоящего советского балета». Увы, премьера омрачается убийством. Разбираться в происходящем приходится совершенно не приспособленным к расследованию преступлений людям: импозантный театральный критик, отрешенная от реальности балерина, отчисленный с рабфака студент и дотошная юная сотрудница библиотеки по воле случая превращаются в следственную группу.
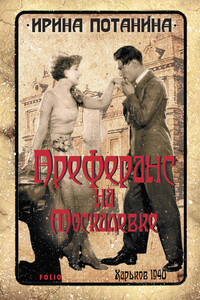
Харьков, роковой 1940-й год. Мир уже захлебывается войной, уже пришли похоронки с финской, и все убедительнее звучат слухи о том, что приговор «10 лет исправительно-трудовых лагерей без права переписки и передач» означает расстрел. Но Город не вправе впадать в «неумное уныние». «Лес рубят – щепки летят», – оправдывают страну освобожденные после разоблачения ежовщины пострадавшие. «Это ошибка! Не сдавай билеты в цирк, я к вечеру вернусь!» – бросают на прощание родным вновь задерживаемые. Кинотеатры переполнены, клубы представляют гастролирующих артистов, из распахнутых окон доносятся обрывки стихов и джазовых мелодий, газеты восхваляют грандиозные соцрекорды и годовщину заключения с Германией пакта о ненападении… О том, что все это – пир во время чумы, догадываются лишь единицы.
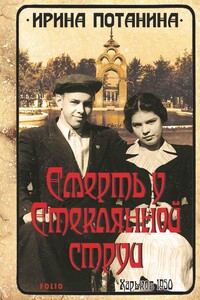
…Харьков, 1950 год. Страну лихорадит одновременно от новой волны репрессий и от ненависти к «бездушно ущемляющему свободу своих трудящихся Западу». «Будут зачищать!» — пророчат самые мудрые, читая последние постановления власти. «Лишь бы не было войны!» — отмахиваются остальные, включая погромче радио, вещающее о грандиозных темпах социалистического строительства. Кругом разруха, в сердцах страх, на лицах — беззаветная преданность идеям коммунизма. Но не у всех — есть те, кому уже, в сущности, нечего терять и не нужно притворяться. Владимир Морской — бывший журналист и театральный критик, а ныне уволенный отовсюду «буржуазный космополит» — убежден, что все самое плохое с ним уже случилось и впереди его ждет пусть бесцельная, но зато спокойная и размеренная жизнь.

Когда молодой следователь Володя Сосновский по велению семьи был сослан подальше от столичных соблазнов – в Одессу, он и предположить не мог, что в этом приморском городе круто изменится его судьба. Лишь только он приступает к работе, как в Одессе начинают находить трупы богачей. Один, второй, третий… Они изуродованы до невозможности, но главное – у всех отрезаны пальцы. В городе паника, одесситы убеждены, что это дело рук убийцы по имени Людоед. Володя вместе со старым следователем Полипиным приступает к его поиску.