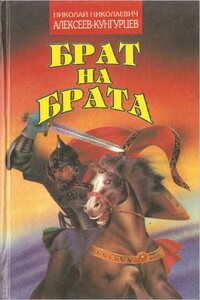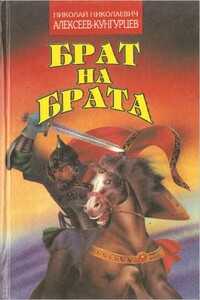Лжецаревич - [11]
Этого не мог сделать ни пан Вишневецкий, ни иезуит, ни пьяные гости. Их глаза загорелись страстным огоньком, концы губ подергивались.
— А? Какова, какова!.. — приговаривал князь Адам и искал сравнения. — А, какова… пташка?
— Пташка? Да, пташка! — пробормотал иезуит и осушил свой кубок.
Вишневецкий захохотал.
— Ха-ха-ха! Так на же, утешайся с этой пташкой, черный ворон! Дарю! Бери ее себе!
И пан Адам кинул Розалию в объятья отца Николая.
— Спасибо… Я ее возьму к себе только… экономкой… не более, — проговорил иезуит, скромно опуская глаза.
Так попала она в дом отца-иезуита, который никогда не отказывался от участия в пирушках своего ясновельможного пана.
Но иногда на патера находили полосы раскаяния, ему грезился ад и бесы, хохочущие и пляшущие вокруг его упитанного тела; в это время — во время раскаяния — он верил во все: и в ад, и в чистилище, как самый пламенный сын римской церкви. Мурашки холода пробегали по его телу. Он становился холодно-суров, начинал вести аскетический образ жизни, молился по целым дням. Вместе с собою он заставлял молиться и Розалию.
Розалия повиновалась. Она опускалась на колени, набожно устремляла взгляд на икону, но не молилась. Правда, рука ее творила крестное знаменье в такт читаемым нараспев латинским молитвам отца Николая, но молитвенного настроения в ее душе не было.
Она крестилась, крестилась, но слова покаяния не слетали с ее языка, сознание какой-либо вины не пробуждалось.
Пришла пора ей молиться иначе позже, когда она сблизилась «с ним». Как не понравился «он» ей, когда она его впервые увидала! Рыжий, некрасивый, неравнорукий… «Какой противный!» — подумала она.
И со второй же встречи все пошло иначе. Он подошел к ней, заговорил, взглянул, кажется, в самую ее душу своими тусклыми голубыми глазами — и свершилось чудо! Этот некрасивый человек, почти уродливый, стал ее господином, она — покорной рабыней. Она покорилась не сразу. Она боролась, возмущалась собою, искала прибежища в молитве — тогда она поняла, что значит молиться! — но, наконец, покорилась. В нем таились могучие страсти; они прорвались и захватили ее, и заставили странно затрепетать ее маленькое тело, забиться сердце. Она поняла, что значит страстно любить, что значит добровольно отдаться любимому существу. Ей открылся рай, и ничтожными казались в сравнении с ним те адские муки, о которых в порывах раскаяния говорил ей отец Николай. Да если бы они — эти муки — были еще ужаснее, они не остановили бы ее.
Полюбив его, Розалия в первый раз сказала себе: «Я счастлива!» А между тем, в этом счастье было много горечи, хотя бы вот этакое долгое ожидание, когда сердце рвется от тоски или когда он приходит сумрачным. За последнее время это все чаще стало повторяться. Его гнетет какая-то дума, это ясно для Розалии. Она допытывалась. Он или отмалчивался, загадочно глядя на нее, или отвечал:
— Погоди, узнаешь. Еще не пришел срок!
Часто она обвиняла себя, что он печален: верно, она мало ласкает его. Она удваивала ласки, он оживлялся, но потом опять погружался в свою угрюмую думу.
Тяжело бывало Розалии, но все это искупалось, когда он привлекал ее к себе, страстно целовал, называл «своею коханкой».
Свеча стаяла больше, чем наполовину; длинный нагоревший фитиль согнулся дугою, и пламя меркло.
Розалия оторвалась от своих дум, сняла нагар со свечи и заходила по комнате.
«Господи! Что же он не идет!» — думала она и сжимала грудь своими маленькими руками, точно желала сдержать биение своего сердца.
От крыльца донесся шум шагов.
Розалия бегом бросилась к крыльцу.
— Ты? Ты, Григорий?
— Я, люба моя! — послышался голос из темноты.
— О, мой дрогий! О, мой коханый! — дрожащим от радости голосом проговорила она.
IX. Перелом
— Опять невесел! Опять сумрачен, как день осенний! — говорила Розалия, заглядывая в лицо Григория.
— Нет, я ничего…
— Ай, не добрый! Зачем обманываешь меня? Вижу, вижу… Что тебя кручинит? Скажи, милый! Скажи, родной!
Ее глаза почти с мольбою смотрели на него.
— Есть ведь кручина? Да? Поведай, о чем кручинишься?
Григорий сжал ее руки в своих.
— Да!.. Да, есть у меня кручина… — заговорил он быстро, и новое, никогда прежде не виданное Розалией выражение появилось на его лице. — Да, есть! Скажи, не кажется ли тебе, что чудно устроен наш белый свет. Почему мы с тобой в маленьких людях и терпим молча обиды и поношенья от сильных мира сего? Хуже мы других? Не хуже! Раскрой мою грудь, вынь сердце да загляни в него, что в нем таится, не найдешь такого и у самого ясновельможного князя Адама! Да что у него! У круля польского не найдешь! Чем виновен я, что родиться мне пришлось в маленьких людях? Судьба ошиблась, не туда меня кинула! Так я исправлю ее ошибку… Я хочу счастья, хочу жизни!.. Понимаешь, о чем я кручинюсь?
Он волновался и до боли сжимал ее руки. Розалия смотрела на него с некоторым испугом. Она тихо высвободила свои руки.
— Понимаю, — промолвила она, — понимаю… Только можно ль об этом кручиниться? Всякому свое. Да и разве уж такое счастье быть паном? У них свои беды… А счастье… Господи! Да разве счастье панством, богатством дается! Сидеть вот этак с коханым своим и речь его слушать, и каждое слово ловить, и в сердце свое укладывать, и знать, что только одна, ты люба ему, как и он один тебе — ах, милый! да разве это не есть счастье? Что нам до панства, что нам до чертогов их золотых? Коханый! Любишь ли ты меня?
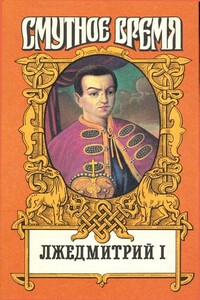
Романы Н. Алексеева «Лжецаревич» и В. Тумасова «Лихолетье» посвящены одному из поворотных этапов отечественной истории — Смутному времени. Центральной фигурой произведений является Лжедмитрий I, загадочная и трагическая личность XVII века.
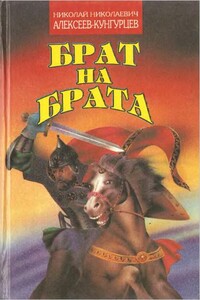
Сын опального боярина по несчастной случайности попал в Венецию и вырос вдали от дома. Но зов родины превозмог заморские соблазны, и Марк вернулся в Московию, чтоб быть свидетелем последних дней Иоанна Грозного, воцарения Феодора, смерти Димитрия…

Николай Николаевич Алексеев (1871–1905) — писатель, выходец из дворян Петербургской губернии; сын штабс-капитана. Окончил петербургскую Введенскую гимназию. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Всю жизнь бедствовал, периодически зарабатывая репетиторством и литературным трудом. Покончил жизнь самоубийством. В 1896 г. в газете «Биржевые ведомости» опубликовал первую повесть «Среди бед и напастей». В дальнейшем печатался в журналах «Живописное обозрение», «Беседа», «Исторический вестник», «Новый мир», «Русский паломник».
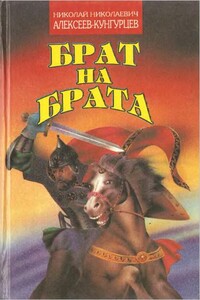
Алексеев Николай Николаевич (1871-1905), прозаик.Из дворян Петербургской губернии, сын штабс-капитана. Всю жизнь бедствовал, занимался репетиторством, зарабатывал литературным трудом. Покончил жизнь самоубийством.Его исторические рассказы, очерки, повести, романы печатались во многих журналах («Беседа», «Новый мир», «Живописное обозрение» и др.), выходили отдельными изданиями и были очень популярны.Освещение событий разных периодов русской истории сочетается в его произведениях с мелодраматическими сюжетными линиями, с любовной интригой, с бушующими страстями.…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
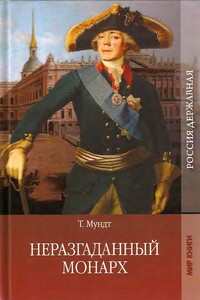
Теодор Мундт (1808–1861) — немецкий писатель, критик, автор исследований по эстетике и теории литературы; муж писательницы Луизы Мюльбах. Получил образование в Берлинском университете. Позже был профессором истории литературы в Бреславле и Берлине. Участник литературного движения «Молодая Германия». Книга «Мадонна. Беседы со святой», написанная им в 1835 г. под влиянием идей сен-симонистов об «эмансипации плоти», подвергалась цензурным преследованиям. В конце 1830-х — начале 1840-х гг. Мундт капитулирует в своих воззрениях и примиряется с правительством.

Павел Петрович Свиньин (1788–1839) был одним из самых разносторонних представителей своего времени: писатель, историк, художник, редактор и издатель журнала «Отечественные записки». Находясь на дипломатической работе, он побывал во многих странах мира, немало поездил и по России. Свиньин избрал уникальную роль художника-писателя: местности, где он путешествовал, описывал не только пером, но и зарисовывал, называя свои поездки «живописными путешествиями». Этнографические очерки Свиньина вышли после его смерти, под заглавием «Картины России и быт разноплеменных ее народов».

Во времена Ивана Грозного над Россией нависла гибельная опасность татарского вторжения. Крымский хан долго готовил большое нашествие, собирая союзников по всей Великой Степи. Русским полкам предстояло выйти навстречу врагу и встать насмерть, как во времена битвы на поле Куликовом.

Поздней осенью 1263 года князь Александр возвращается из поездки в Орду. На полпути к дому он чувствует странное недомогание, которое понемногу растёт. Александр начинает понимать, что, возможно, отравлен. Двое его верных друзей – старший дружинник Сава и крещённый в православную веру немецкий рыцарь Эрих – решают немедленно ехать в ставку ордынского хана Менгу-Тимура, чтобы выяснить, чем могли отравить Александра и есть ли противоядие.