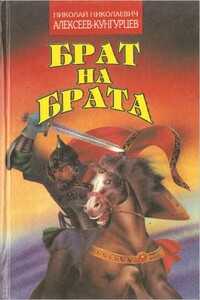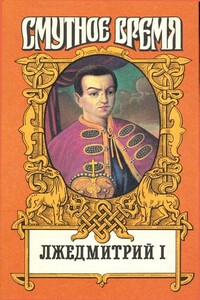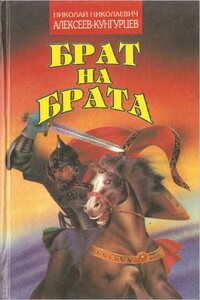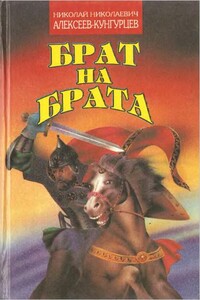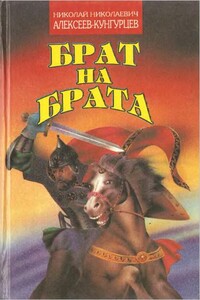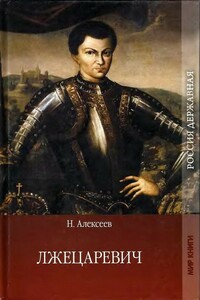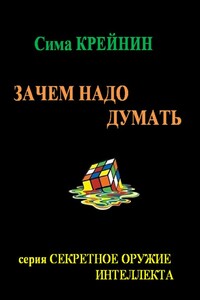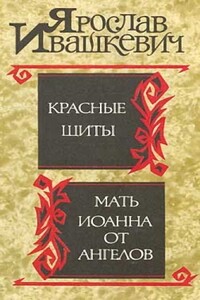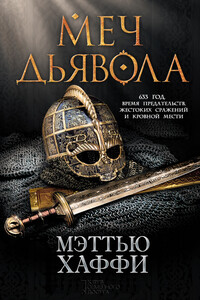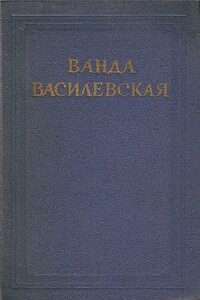Был февраль 1559 года.
Хотя это один из самых морозных зимних месяцев, однако, в том году, о котором идет речь, февраль, словно начал собою весну, потому что вот уже вторая неделя, как стояла оттепель.
В саду боярина Темкина, где обыкновенно в это время года лежали сугробы снега, и деревья-великаны, бывали, покрыты толстым слоем инея, будто взамен покрывавшей их летнею порой темно-зеленой, тихо шепчущейся листвы, снегу было уже немного, и с ветвей кустов и деревьев падали крупные капли, словно слезы по уходившей безвременно зиме.
День клонился к вечеру. Косые лучи зимнего солнца, прорвавшись сквозь легкие облака, играли на каплях, повисших на концах древесных веток и на слюде окон боярского терема.
Вечер был тих. Никому поэтому из нянюшек и мамушек боярышни Марьи Васильевны Темкиной и на мысль не пришло удивиться тому, что боярышня, надев теплую телогрею, спустилась в сад.
«День хороший, теплый… Почитай, весна наступила. Знамо дело, боярышне скучно в тереме за пяльцами сидеть. Вот и пошла воздухом чистым маленько подышать», — думали они.
Невдомек и невдогад им было, что совсем не воздух чистый и не день ясный потянули Марью Васильевну в сад, а очи добра молодца-красавца. И диву бы все они дались, заахали, если б узнали, что сидит она теперь с этим молодцем в саду на скамье, от терема не больно далеко, и ведет с ней этот молодец, боярин-князь Андрей Михайлович Бахметов, беседу, словно голубь с голубкою воркует. Светятся очи молодого боярина соколиные лаской нежною, как вскинет он взор свой на зазнобушку… Да и как было не светиться ласкою очам Князевым, как было ему не любоваться на такую кралю писаную!
Высока, стройна была Марья Васильевна, словно сосенка молодая, что всеми ветвями тянется прямо к небу синему да солнышку жаркому, была и румяна, словно яблочко наливное…
А уж очи-то, очи! Взглянет она ими на молодца — и прости-прощай сердце молодецкое! Улетит оно, как пташка быстрокрылая, из тесной клетки выпущенная, и помчится вслед за красоткой, за ее очами лазоревыми! Над очами полукругами протянулись тонкой нитью брови темные, по плечу будто змея золотистая рассыпалась коса длинная…
Хороша была Марья Васильевна, да и Андрей Михайлович не урод был. Рослый, стройный и широкий в плечах, сродни он был тем богатырям, что встарь на святой Руси живали, про которых песни сложены: поведет плечом, шевельнет рукой, так, кажись, сила вон сама из тела могучего на вольную волюшку вырваться просится… Видно, молодец провел юность не в девичьей, а на буйном коне, на просторе степном за злым татарином гоняясь или преследуя в лесу вепря злобного; видно, засыпал он не под говор сказок старых мамушек на мягкой перине пуховой, а под шум ветра, под скрип сосен да елей развесистых спал, после забав молодецких на зеленой мураве-траве… Вот где нагулял ой свою силушку! И лицом он был красавец. Лоб высокий, белый, словно точенный из той кости, которую купцы везут из-за заморья далекого, а над ним вились кудри черные… Над губами ярко-красными усы длинные, молодецкие, в кольца закручивались… Всем бы ладен был Андрей Михайлович, если бы не черные глаза его, что под густыми черными бровями прорезались наискось от висков к переносице! Если станом своим да крепостью был он схож с богатырями русскими старинными, то глазами он не в них уродился, а в своего прадеда, чистокровного татарина, мурзу Бахмета, который еще при Василии Темном принял веру Христову и на царскую службу перешел…
И бедовые были эти глаза его азиатские! У храброго сердце екало и мурашки по телу бегали, а трусливого прямо робь брала, как сверкнут глаза Князевы из-под черных бровей насупленных, когда гнев в груди его разыграется.
Но зато умели они и нежить ласкою, греть огнем любви, когда видел князь друга милого или любушку свою желанную…
Целует, ласкает свою милую князь Андрей Михайлович, и, кажется, должно бы его сердце радоваться, а он между тем, нет-нет да и вздохнет тяжело-тяжело всею грудью своею могучею… Платит ласками горячими в ответ ему Марья Васильевна. Ласкает своего ясного сокола, сама между тем, как и он, нет-нет да вздохнет и смахнет рукой белою слезу, на глаза набежавшую…
— Милый! — шепчет боярышня, обнимая князя, — неужели ты покинешь меня? Не пожалеешь меня? Променяешь ласки мои девичьи, любовные и горячие на битвы опасные со златыми татарами?
— Не плачь, не тоскуй, моя ласточка, — говорит ей в ответ Андрей Михайлович. — Что же делать! Наш уж удел такой молодецкий: каждый день, каждый чай будь готов на службу царскую, на бой с ворогами лютыми.
— Да теперь ведь не то! — горячо возразила ему девушка. — Ведь тебе царь не приказывал в поход идти… Ты идешь своею волею.
— Все равно! Коли я его верный слуга — должен идти. Честь моя боярская того требует.
— Почему ж другие-то дома сидят? Вон Шуйские, Микулинские, Пронские — никто на бой не сбирается!
— Что ж мне до них! — усмехнулся князь. — Посмотри-ка. Вон высоко в ясном небе сокол малой точкою виднеется, чуть крыльями пошевеливает, — указал он боярышне на птицу, — а вон ворон чернокрылый лениво на ветке покачивается да одним глазом высь на сокола смотрит, и не хочет к небу синему на крыльях своих подниматься: знает, крылья его не выдержат… Потому и не равняться ему с соколом, и соколу с вороном… Так-то и мне с ними!