Людовик XIV - [2]
Одни рассматривают «Мемуары» герцога как историческое свидетельство, достойное историка и честного человека. Другие знают, что если эти тексты появились лишь в XIX веке, то это означает, что их автор боялся (и с полным основанием) возмущения тех, кто пережил правление короля, их сыновей и внуков. Но они с любезной улыбкой приводят вам ultima ratio: «Он же так хорошо пишет!» Что ответить? Тацит тоже хорошо писал, и даже Светоний со своим злым языком. Тальман де Рео, Бюсси-Рабютен тоже хорошо владеют пером; никто, однако, не считает их надежными свидетелями. Поэтому надо предпочесть, не колеблясь, «Век Людовика XIV» (1739–1751)>{112} «Мемуарам» СенСимона>{94}.
Неудивительно, что Вольтер, друг просвещенных деспотов, восхищался Людовиком XIV, который является родоначальником просвещенного деспотизма. Неудивительно также, что злостный пасквиль на короля опять появляется, вновь обрастая выдумками, в век романтизма. В XIX веке одно за другим публикуются полные собрание сочинений Сен-Симона, «История Франции» Мишле, учебники Эрнеста Лависса. Тот же Жюль Мишле, написавший поэтично и с большой любовью историю средних веков и умело воссоздавший эпоху, разгромил на своих страницах старорежимную монархию. «XVI и XVII векам, — пишет он (1869), — я устроил ужасный праздник. Рабле и Вольтер смеялись в своих могилах. Околевшие божества, истлевшие короли предстали без покрывала. Пошлая история условностей, эта стыдливая недотрога, наконец исчезла. Безжалостному анализу было подвергнуто правление покойников от Медичи до Людовика XIV». Предвзятое мнение довлеет над знаменитым историком: преследования еретиков королевскими драгунами, которых размещали на постой в домах этих несчастных, насильственное обращение в католичество, изгнание гугенотов, галеры, несчастья, вызванные войной, голодовки — все это, кажется, радует его, он почти счастлив, что страна терпела военные неудачи. А через 40 лет другой историк, Эрнест Лависс, с большим научным подходом, хотя и не всегда последовательно, излагает исторические факты, все время перемещаясь из кресла судьи в кресло обвинителя, словно изображает суд истории. Разумеется, он шире смотрит на вещи, чем Мишле. В «Иллюстрированной истории Франции», предназначенной для взрослых, Лависс сдержанно пишет о Людовике XIV. Но в учебных пособиях для начальной школы он позволяет себе писать об этом же короле как о легкомысленном и жестоком деспоте>{162}.
На нас всех в большей или меньшей степени оказал влияние сей сборник небылиц, переполненный язвительной критикой. В связи с этим автор настоящей книги уверен — его пролог вызовет шквал обвинений в излишней полемичности, чрезмерной критике, агрессивности, тогда как цель его проста и заключается в том, чтобы сказать: «Довольно сводить счеты», или крикнуть как офицер в бою: «Не стрелять!» Кстати, теперь надо открыть досье Людовика XIV и обязательно найти для него страстного адвоката, и не потому что Сен-Симон, Мишле или Лависс играли роль прокурора. В самом начале, когда только подбирались документы для этой работы, мы мало симпатизировали этому королю. Он нам казался холодным, бесчувственным, не допускавшим никого к себе близко, находящимся в абсолютном плену государственных интересов. Но в процессе работы с годами облик короля менялся, становился колоритнее. Мы увидели: здесь монарх не тождествен самодержцу, что Король-Солнце не считал себя Аполлоном, что самый могущественный государь, самый знаменитый король в христианском мире тех времен был личностью гуманной и, пожалуй, глубокочеловечным, если судить по словам и делам его, по манере карать и миловать, а не по сентиментальным слабостям.
Из этого не следует, что это царствование было безоблачным, а король без недостатков. Антипротестантская политика, отчасти объяснимая в начале его царствования, остается неоправданной — в конце. Преследования августинцев, знаменитых янсенистов имели моральные последствия более серьезные, чем материальное разрушение аббатства Пор-Рояль. Канал реки Эр, разоренный Пфальц нисколько не способствовали славе короля. В книге не избежать этих тем. Но автор считает нужным сказать, что светлое начало преобладает над темным в течение всех 72 лет царствования (1643–1715) Людовика XIV, из которых 54 года приходятся на его личное правление (1661–1715), Чтобы удостовериться в этом, надо лишь прочесть последние труды Хэттона>{197}, Корвизье>{165} и Жана Мейера, статьи Мунье>{249}, Фростена[3], Таймита[4]. Стоит лишь обратиться к источникам, достойным доверия. Те, которые написаны блестяще — мы уже знаем это, — необязательно являются наиболее достоверными. Среди свидетелей этого правления, заслуживающих внимания, имена Данжо
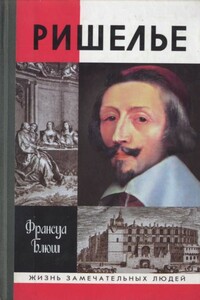
Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье (1585–1642), известен миллионам читателей по романам Дюма. Но реальный облик одного из крупнейших государственных деятелей Франции сильно отличается от созданного писателем. Первый министр короля Людовика XIII управлял страной в сложный период становления абсолютизма, борьбы Франции за гегемонию в Европе, рождения новой культуры, рвущей с наследием Средневековья. Выдающаяся роль Ришелье во всех этих процессах наглядно показана в книге профессора Франсуа Блюша (род.
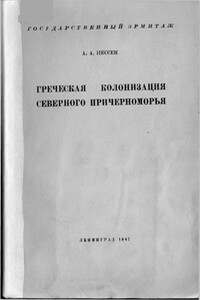
Настоящая работа написана в 1942 г. в Свердловске. В условиях военного времени не было возможности использовать в полной мере относящуюся к разбираемому вопросу литературу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Боец легендарного 181-го отдельного разведотряда Северного флота Макар Бабиков в годы Великой Отечественной участвовал в самых рискованных рейдах и диверсионных операциях в тылу противника — разгроме немецких гарнизонов на берегах Баренцева моря, захвате артиллерийской батареи на мысе Крестовый и др., — а Золотой Звезды Героя был удостоен за отчаянный десант в южнокорейский город Сейсин в августе 1945 года, когда, высадившись с торпедных катеров, его взвод с боем захватил порт и стратегический мост и, несмотря на непрерывные контратаки японцев, почти сутки удерживал плацдарм до подхода главных сил.Эта книга вошла в золотой фонд мемуаров о Второй мировой войне.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.