Любовь к отеческим гробам - [13]
“откат”. Так что теперь ее орлы и орлицы снова пашут, как при старых господах, часов по двенадцать – четырнадцать на какой-то московский филиал, а Катька за это ежеквартально, обмирая от ужаса, возит благодетелям тяжеленькие денежные блоки.
Возвращается из Москвы в тот же день сидячим поездом, даже не заходя в любимую Третьяковку, – обожаемая Москва превратилась для нее в место преступления, которое необходимо покинуть как можно скорее. Потом она несколько дней отходит, заводит скорбные разговоры о своем падении, о том, что теперь, наверно, и я в душе презираю ее, – на что я отвечаю с неизменным пафосом:
“Прежде я тебя любил, а теперь уважаю”. Затем я почтительно именую ее “Дон” и пытаюсь поцеловать перстень. “Мерзавец”, – безнадежно вздыхает она.
“Я правду о тебе порасскажу такую, что будет хуже всякой лжи”, – говорит Катька о демократии, но ни о каких масштабных переменах больше не помышляет: “Снова будут пять лет пересаживаться, а не работать”. Она всегда как-то незаметно стягивает свои притязания в рамки возможного. “Если я чего-то начинаю хотеть, значит, где-то уже верю, что получится”, – говорит она и повторяет первую заповедь демократического катехизиса: демократия есть наихудшее общественное устройство, не считая всех остальных. Я же, позевывая, возражаю, что наилучшего (наименее плохого) общественного устройства не может быть точно так же, как не может быть наилучшего лекарства – в разных ситуациях нужно разное.
Катька ищет компромисса между своим реалистическим рассудком и утопической душой в беспрерывных пожертвованиях – на рождения и похороны, на вдов и сирот (на храмы никогда), – но при этом постоянно саркастически проходится и по рыданиям о всеобщей бедности, да и по самим беднякам: у бастующих шахтеров спины жирные, тетки, перекрывающие уличное движение, все в шубах, на работу на два часа в день никак не найти уборщицу… Когда моя еврейская душа не позволяет выбросить поношенное пальто – “отдай лучше бедным”, – она растерянно разводит руками: “Бедные все толстые”. Но “вуткинской” родни эти абстрактные подкусывания не касаются совершенно – ее она подкармливает до семьдесят седьмого колена, а для Леши, чтоб он окончательно не спился, держит полуненужную должность курьера. С нечистой, прокуренной седины сквозным чубом бывшего блондина, малиновый и хмурый, он смахивает на не очень крупного, но очень достойного провинциального начальника. Время от времени романтическая натура все-таки берет свое, он на несколько дней пропадает (как правило, все-таки доставив пакет по адресу – “я как батя”), потом еще несколько дней предается бурной курьерской службе, стараясь не попадаться Катьке на глаза, пока она не отойдет: сорок лет назад, совершая налеты на соседские сады, он непременно притаскивал и ей по два-три кислых яблока, и забыть эти дары она уже никогда не сможет. Тем не менее Леша теперь открыто ее чтит, но со мной по-прежнему держится строго. “А ты, зятек, помолчи”, – может вдруг остановить меня на каком-нибудь широкосемейном торжестве, ввергая в мелкий соблазн: а не выйти ли из-за стола – пусть-ка испытает на себе священный ужас
“вуткинской” общины, где я почти каждого хоть чем-нибудь да облагодетельствовал и скорее всего облагодетельствую в будущем… Но ведь повиснут и на мне, начнут умолять, тащить и не пущать – в столкновении с хамством мы всегда проигрываем: победа над ним так же противна, как и поражение. Поэтому я стараюсь не бывать там, куда приглашен Леша. Увы, я не настолько мелочен, чтобы раз и навсегда загнать Лешу под лавку, хотя мне для этого достаточно пошевелить пальцем; но – еще раз увы – я и не настолько великодушен, чтобы полностью снизойти к нищему облезлому неудачнику, понесшему особо непоправимый урон в зубах, которого мне бывает даже жалко, пока я не вспоминаю, что и я, в сущности, такой же неудачник. По своему отношению к мучительнейше любимым не так еще давно детям я вижу, что не умею по-настоящему жалеть тех, кого не уважаю. Но снисходительность немедленно снисходит на меня, когда я отдаю себе отчет, что Леша и подкусывает-то меня только ради сохранения исплесневевших остатков уважения к себе. Вот когда мы пили с ним на Заозерской кухне – в единственной комнате спали дети, – тогда я его злил по-настоящему: Катька, краса и гордость ковригинского рода, обожает какого-то слюнтяя, сопляка!.. Вдобавок самое обидное – держит его почти за героя. Я и правда не раз повергал ее в ужас, то прогуливаясь по карнизу третьего этажа, то мимоходом прихватывая с витрины яблоко или конфету, но сам-то я чувствовал некую радикальную разницу между хорохорящимся молокососом и настоящим мужиком. Когда мы с Лешей, поддатые, вваливались, скажем, в такси, водитель, как бы я ни косил под бывалого, с полувзгляда раскалывал во мне человека несерьезного и начинал обращаться только к Леше – и они заводили грубовато-дружелюбную беседу мужиков, уважающих друг друга. Да, содержание их разговоров тоже было бесконечно скучно для меня, ибо с головкой уходило в мир повседневных реальностей, – но главным, что мгновенно превращало меня в изгоя, было, я думаю, мое желание нравиться. В субкультуре российских городских низов достойным считается лишь презрение к случайному встречному – своего здесь опознают по умению показать, что ты для него такое же дерьмо, как и он для тебя.

Романы А. М. Мелихова – это органическое продолжение его публицистики, интеллектуальные провокации в лучшем смысле этого термина, сюжет здесь – приключения идей, и следить за этими приключениями необычайно интересно. Роман «Исповедь еврея» вызвал шум и ярость после публикации в «Новом мире», а книжное издание стало интеллектуальным бестселлером середины девяностых.

"... Однако к прибытию энергичного милицейского наряда они уже успели обо всем договориться. Дверь разбили хулиганы, она испугалась и вызвала мужа. Да, она знает, что посторонним здесь не место, но случай был исключительный. А потому не подбросят ли они его до дома, им же все равно нужно патрулировать? ...".

Нет лучше времени, чем юность! Нет свободнее человека, чем студент! Нет веселее места, чем общага! Нет ярче воспоминаний, чем об университетах жизни!Именно о них – очередной том «Народной книги», созданный при участии лауреата Букеровской премии Александра Снегирёва. В сборнике приняли участие как известные писатели – Мария Метлицкая, Анна Матвеева, Александр Мелихов, Олег Жданов, Александр Маленков, Александр Цыпкин, так и авторы неизвестные – все те, кто откликнулся на конкурс «Мои университеты».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Каменное братство» – не просто роман, это яркий со временный эпос с элементами нового мифологизма, главная тема которого – извечная тема любви, верности и самозабвенного служения мечте. Главный герой, вдохновленный Орфеем, сначала борется за спасение любимой женщины, стремясь любыми средствами вернуть ее к жизни, а затем становится паладином ее памяти. Вокруг этого сюжетного стержня разворачиваются впечатляющие картины современной России, осененные вечными образами мужской и женской верности. Россия в романе Александра Мелихова предстает удивительной страной, населенной могучими личностями.

"... Инфаркт, осенила радостная догадка, но он не смел поверить своему счастью. Он пошевелил губами, и лицо склонилось ниже. «Скажите, мне можно будет жить половой жизнью», – одними губами прошелестел Иридий Викторович. Окружающим было не слышно, а перед доктором в качестве пациента он имел право на такую вольность.У врача от неожиданности вырвался хрюкающий смешок ...".

Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. Любовь обращается в ненависть, а истина – в ложь. И то, что должно было выплыть на поверхность, теперь похоронено глубоко внутри.Это история о первой любви и разбитом сердце, о пережитом насилии и о разрушенном мире, а еще о том, как выжить, черпая силы только в самой себе.Бестселлер The New York Times.
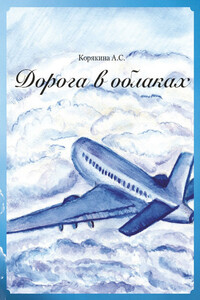
Из чего состоит жизнь молодой девушки, решившей стать стюардессой? Из взлетов и посадок, встреч и расставаний, из калейдоскопа городов и стран, мелькающих за окном иллюминатора.
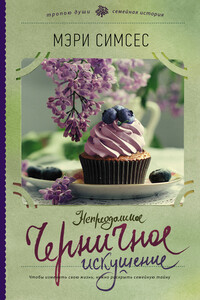
Эллен хочет исполнить последнюю просьбу своей недавно умершей бабушки – передать так и не отправленное письмо ее возлюбленному из далекой юности. Девушка отправляется в городок Бейкон, штат Мэн – искать таинственного адресата. Постепенно она начинает понимать, как много секретов долгие годы хранила ее любимая бабушка. Какие встречи ожидают Эллен в маленьком тихом городке? И можно ли сквозь призму давно ушедшего прошлого взглянуть по-новому на себя и на свою жизнь?

Самая потаённая, тёмная, закрытая стыдливо от глаз посторонних сторона жизни главенствующая в жизни. Об инстинкте, уступающем по силе разве что инстинкту жизни. С которым жизнь сплошное, увы, далеко не всегда сладкое, но всегда гарантированное мученье. О блуде, страстях, ревности, пороках (пороках? Ха-Ха!) – покажите хоть одну персону не подверженную этим добродетелям. Какого черта!

Представленные рассказы – попытка осмыслить нравственное состояние, разобраться в проблемах современных верующих людей и не только. Быть избранным – вот тот идеал, к которому люди призваны Богом. А удается ли кому-либо соответствовать этому идеалу?За внешне простыми житейскими историями стоит желание разобраться в хитросплетениях человеческой души, найти ответы на волнующие православного человека вопросы. Порой это приводит к неожиданным результатам. Современных праведников можно увидеть в строгих деловых костюмах, а внешне благочестивые люди на поверку не всегда оказываются таковыми.

В жизни издателя Йонатана Н. Грифа не было места случайностям, все шло по четко составленному плану. Поэтому даже первое января не могло послужить препятствием для утренней пробежки. На выходе из парка он обнаруживает на своем велосипеде оставленный кем-то ежедневник, заполненный на целый год вперед. Чтобы найти хозяина, нужно лишь прийти на одну из назначенных встреч! Да и почерк в ежедневнике Йонатану смутно знаком… Что, если сама судьба, росчерк за росчерком, переписала его жизнь?