Луи Пастер. Его жизнь и научная деятельность - [2]
Проучившись еще год, он снова держал экзамен и в октябре 1843 года поступил в Нормальную школу, хотя все-таки не первым, а только четвертым по списку. Видно, его дарования и трудолюбие были не такого сорта, какой потребен для “первого ученика”. В этом отношении он напоминает своего единственного соперника по славе и значению в науке XIX века – Дарвина.
В Нормальной школе он мог всецело отдаться своей любимой науке, что и не замедлил сделать. Он слушал лекции двух знаменитых химиков: Дюма в Сорбонне, Балара в Нормальной школе. Дюма, один из творцов органической химии, был мыслителем, философом, увлекавшимся оригинальностью и новизною взглядов; Балар, прославившийся в особенности открытием брома, отличался больше по части фактических исследований. Читали они по-разному: Дюма, важный, почти торжественный, говорил красно и складно, излагал лекцию наработанным стилем; Балар импровизировал, увлекался, торопился, помогая себе жестами, иногда путался в таком, примерно, роде: “Кали, который… ну, известно, кали… одним словом, кали, который я вам показываю…”
Праздники и воскресные дни Пастер проводил в лаборатории, в обществе Баррюэля, лаборанта Дюма, помогая ему в работе. В лаборатории долго сохранялся – а может быть, и теперь сохраняется – флакон с фосфором, который был получен Пастером из костей. Он сам пережег их, проделал все необходимые манипуляции и после нагревания, длившегося с 4-х часов утра до 9-ти вечера, получил 60 граммов фосфора.
Кроме Дюма и Балара, Пастер с особенным интересом слушал Делафосса, профессора минералогии, ученика знаменитого Гаюи, рассеянного чудака, равнодушного ко всему, кроме науки. Минералогия сама по себе не особенно интересовала Пастера, но его занимал вопрос о связи внешней кристаллической формы с внутренним строением материи. Что такое кристалл? Почему различные тела обладают различной кристаллической формой? От чего зависит геометрическая правильность кристалла? Не находится ли она в связи со строением частиц тела? Нельзя ли, изучая внешние формы, проникнуть внутрь, разгадать элементарную структуру материи?
Вопросы, как видим, совершенно отвлеченные; вопросы “праздного любопытства” с точки зрения людей, ратующих за “общеполезные сведения”, – и притом вопросы мудреные, казавшиеся неразрешимыми.
Лет двадцать назад Био указал на свойство некоторых тел вращать плоскость поляризации и высказал мысль, что изучение этих свойств в связи с кристаллическими формами бросит свет на молекулярное строение материи. Но возможность так и оставалась возможностью в течение двадцати лет; ни сам Био, ни другие исследователи не двинулись дальше по этому пути; напротив, работы Мичерлиха и Провостэ опровергали мнение Био.
Словом, вопрос, заинтересовавший Пастера, казался таким темным и неприступным, что, по-видимому, должен был бы испугать начинающего. Начинающий в большинстве случаев делает работу под руководством или по указанию профессора и во всяком случае выбирает вопрос, в котором путь исследования более или менее намечен, так что заранее можно быть уверенным в результатах. Зато и результаты не производят никакого “… Чтобы добиться bouleversement” [1] в науке и, принеся своему автору диплом, не приносят громкой славы громкой славы, надо “дерзать” – в науке, как и везде.
Но тут сказалась в Пастере черта, свойственная тем редким людям, инициатива которых определяет движение человечества в области мысли и практической деятельности, – страсть к неизведанному, к распутыванию неразрешимых проблем, к прокладыванию новых путей.
Мысль о внутренней структуре, обусловливающей внешнюю форму тел, овладела им с назойливостью неотвязного мотива.
Он решил взяться за работу при первой возможности. Эта возможность появилась, когда он сделался препаратором и получил место в лаборатории Балара.
ГЛАВА II. ПЕРВЫЙ ШАГ
О, Пастер! Пастер никогда не сделает ничего путного, при всех своих дарованиях. Он берется за неразрешимые вопросы!
Эм. Вердэ
Луи Пастер в возрасте 24 лет. Студенческие годы.
Пастер исходил из следующих соображений. Если растворы двух тел, химически одинаковых, состоящих из одних и тех же частиц, различно относятся к свету, то это можно объяснить только различной формой частиц, то есть различной группировкой атомов, составляющих частицу. Отклонение плоскости поляризации, оптическая неправильность, указывает на неправильность внутреннюю, на несимметричность в группировке атомов. Если это предположение верно, то и внешние формы двух тел, различно относящихся к свету, не могут быть одинаковы. Невидимая для нас диссимметрия частицы должна проявиться видимой неправильностью кристалла. Если один раствор отклоняет, а другой не отклоняет плоскость поляризации, то из них не должны получиться одинаковые кристаллы.
Это предположение опровергалось работой знаменитого немецкого химика Мичерлиха. Он изучил виноградную и винную кислоту и нашел следующее. Эти кислоты одинаковы по химическому составу, по основным оптическим свойствам, по кристаллической форме: стало быть, природа, число и распределение атомов в них одинаковы. Но раствор винной кислоты вращает плоскость поляризации, раствор же виноградной – нет.
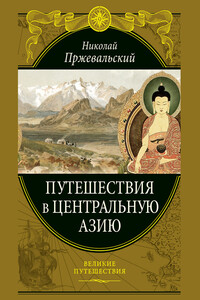
Николай Михайлович Пржевальский (1839—1888) сказал однажды: «Жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать».Азартный охотник – он страстно любил природу. Военный – неутомимо трудился на благо мирной науки. Поместный барин, генерал-майор – умер на краю ойкумены, на берегу озера Иссык-Куль.Знаменитый русский путешественник исходил пешком и на верблюдах всю Центральную Азию – от русского Дальнего Востока, через Ургу (Улан-Батор), Бей-цзин (Пекин) и пустыню Гоби – до окрестностей священной столицы ламаизма Лхасы.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
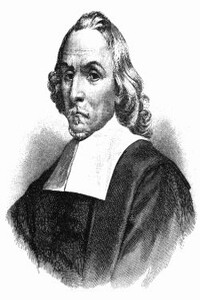
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
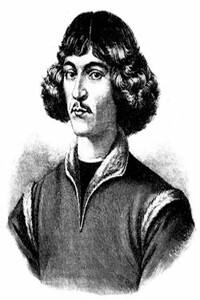
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
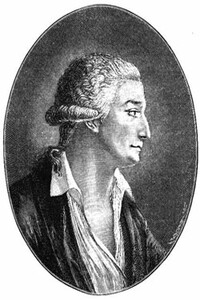
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.