Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе - [22]
Далеко не сразу в поле идеологии был выработан тот язык, который был бы для него наиболее репрезентативным — поначалу претензии авангарда на представительство в искусстве новой реальности встречали сочувствие, пока вместе с процессами структурирования социального пространства не пришло понимание, какой именно письменный проект должен быть реализован. По Эпштейну, советская идеология сделала ставку на реализм, потому что перед ней стояла задача семиотизации всей реальности; реальность должна была быть заменена текстом. Романтизм или сюрреализм не годились для этой цели, поскольку сами создавали свои реальности — идеальные, визионерские, духовные, подсознательные. Только реализм мог до такой степени слиться с реальностью, что-бы целиком претворить ее в себя, поглотить без остатка. Реализм при этом интерпретируется не «как верное отражение» или копия, сосуществующая с реальностью, а «как машина ее замещения, переработка реальности в ее знак и образ при устранении самого подлинника. Реализм переходит в реальность по мере ее преобразования — реальность сама становится реализмом, т. е. текстом о реальности» (Эпштейн 1996: 168). То, что Эпштейном обозначается как «машина замещения реальности и переработка реальности в знак», не совсем точно фиксирует процесс проявления проекции социального пространства в пространство физическое, а замечание об «устранении подлинника» делает сам процесс фантасмагорическим, в то время как ситуация перенесения социальных отношений в плоскость физического пространства инициировалась потребностью превратить символическую власть в политическую власть над конкретными, физически существующими агентами. Просто символическая власть, не имеющая шанса быть претворенной во власть реальную, не является ставкой и инструментом конкурентной борьбы, позволяющим присваивать не только символический и культурный, но также политический и экономический капиталы>135.
Поэтому утверждение, что разница между «критическим» реализмом XIX века и социалистическим реализмом соответствует отличию копии от симулякра, должно быть откорректировано обозначением цели и инструментов процесса создания копий и симулякров. Жиль Делез, рассуждая о покушении подражания на оригинал, замечает, что копия — это образ, наделенный сходством, тогда как симулякр — образ, лишенный сходства>136. Симулякр — адресное послание, он не существует без наблюдателя, конституирующего его как реальность, потому что не в состоянии «охватить те огромные масштабы и глубины, которые несет в себе симулякр. Именно в силу такой неспособности у наблюдателя и возникает впечатление сходства. Симулякр включает в себя и дифференциальную точку зрения. Наблюдатель становится частью самого симулякра, а его точка зрения трансформирует и деформирует последний. Короче говоря, в симулякре присутствует некое умопомешательство, некое неограниченное становление» (Делез 1998: 336). Но для того, чтобы стать убедительным, симулякр должен быть построен особым образом. Уточнение Одуара, касающееся конструкции симулякра, показывает, как утопический реализм советской литературы смог вызвать у наблюдателей массовое умопомешательство, в результате чего иллюзия была интерпретирована как реальность. Для Одуара симулякр — конструкция, включающая угол зрения наблюдателя так, что в любой точке, где находится наблюдатель, воспроизводится иллюзия. Иначе говоря, симулякр тем более убедителен, чем более тотален. Именно по — этому утопический реализм становится не одним из возможных стилей, а тотальным, всепоглощающим письменным проектом, подменяющим собой все поле жизни. А для того чтобы иллюзия была принята за реальность, «акцент делается не на определенном статусе небытия, а, скорее, на этом едва заметном разрыве — на едва заметном искажении реального образа, происходящем в точке, занятой наблюдателем»>137.
Замечание о «едва заметном искажении реального образа» почти повторяет известное определение соцреализма как «правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии»>138. А зависимость убедительности или неубедительности симулякра от «точки, занятой наблюдателем» позволяет поставить вопрос о связи между позицией в поле литературы и позициями в поле идеологии и политики, а в конечном итоге и в физическом пространстве.
В поле литературы идентификация целей и средств письменного проекта происходила постепенно, «движение литературы 20-30-х годов совершалось несколькими потоками, текущими рядом, то притягиваясь один к другому, то разъединяясь и отдаляясь до тех пор, когда один из них потерял из виду другие, ушедшие под землю — в русло литературы, уже не выходившей „на дневную поверхность“ (Д. Лихачев) печатной жизни» (Чудакова 1988). То есть позиции в поле культуры определяли позиции в социальном пространстве и одновременно все более приобретали определяющее значение для физического пространства. Те, кто вписался в этот проект, получили право осуществлять свои стратегии в рамках утопического реализма, поиски за легитимными пределами симуляционного субполя культуры приводили к социальной деадаптации вплоть до «искоренения и депортации» агентов

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Д.А. Пригов: "Из всей плеяды литераторов, стремительно объявившихся из неведомого андерграунда на всеообщее обозрение, Михаил Юрьевич Берг, пожалуй, самый добротный. Ему можно доверять… Будучи в этой плеяде практически единственым ленинградским прозаиком, он в бурях и натисках постмодернистских игр и эпатажей, которым он не чужд и сам, смог сохранить традиционные петербургские темы и культурные пристрастия, придающие его прозе выпуклость скульптуры и устойчивость монумента".

Н. Тамарченко: "…роман Михаила Берга, будучи по всем признакам «ироническим дискурсом», одновременно рассчитан и на безусловно серьезное восприятие. Так же, как, например, серьезности проблем, обсуждавшихся в «Евгении Онегине», ничуть не препятствовало то обстоятельство, что роман о героях был у Пушкина одновременно и «романом о романе».…в романе «Вечный жид», как свидетельствуют и эпиграф из Тертуллиана, и название, в первую очередь ставится и художественно разрешается не вопрос о достоверности художественного вымысла, а вопрос о реальности Христа и его значении для человека и человечества".
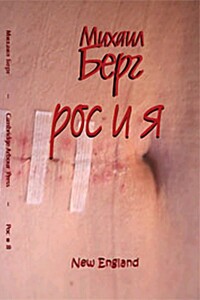
В этом романе Михаила Берга переосмыслены биографии знаменитых обэриутов Даниила Хармса и Александра Введенского. Роман давно включен во многие хрестоматии по современной русской литературе, но отдельным изданием выходит впервые.Ирина Скоропанова: «Сквозь вызывающие смех ошибки, нелепости, противоречия, самые невероятные утверждения, которыми пестрит «монография Ф. Эрскина», просвечивает трагедия — трагедия художника в трагическом мире».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
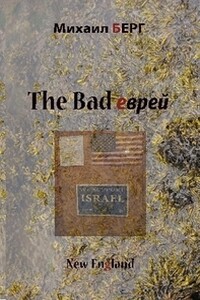
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новой книге известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса исследуются малоизученные стороны эстетики А. С. Пушкина, становление его исторических, философских взглядов, особенности религиозного сознания, своеобразие художественного хронотопа, смысл полемики с П. Я. Чаадаевым об историческом пути России, его место в развитии русской культуры и продолжающееся влияние на жизнь современного российского общества.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.