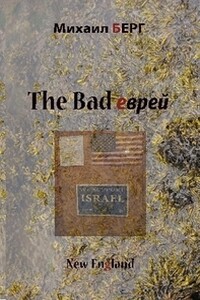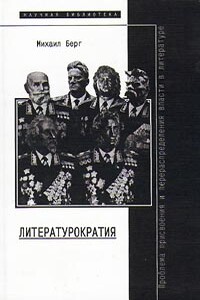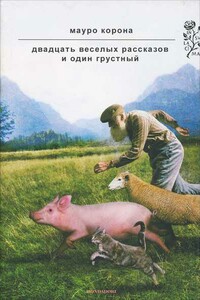Мой роман о любви - ее разновидностях, объектах, инструментах, механизмах. О любви к литературе и любви литературы к власти. А так как любовь к литературе и есть любовь к власти, но слово в наше время утратило власть, то мой роман о том, что власть и любовь еще в состоянии аккумулировать, то есть о Пушкине как объекте любви и инструменте власти.
Однако Пушкин в моем романе ни разу не упоминается, герой с лукавой прямолинейностью обозначен как Х**, а история жизни поэта оказывается историей фаллоса в русской литературе, потому что Х** (сразу скажем - хуй) - это тоже орган любви и инструмент власти. Значит, мой роман о двойниках, о загадочной надписи «L. H. O. O. Q. Shaved» на карандашном рисунке заезжего итальянца, метаморфозах любви, метаморфозах власти, о том, как брат превращается в сестру, Пушкин в Х**, квазиисторическое повествование в концептуальное высказывание, реальность в миф, а любовь в ненависть. Так как история, миф, любовь, ненависть представляют собой разные формы присвоения и перераспределения власти.
Но о механизме превращений, возможно, имеет смысл сказать подробнее.
* * *
Мысль о том, что любовь может быть так же слепа, как и ненависть, тривиальна. Но за гранью мнимого тождества (не столько психологического, сколько фразеологического и физиологического) подчас обнаруживаются сходные функции апроприации.
В равной степени парадоксальная и хрестоматийная идея обладания (озвученная, например, Губером и состоящая в том, что наш первый поэт, несмотря на прокламируемую на протяжении нескольких столетий любовь, в которой ему объяснялись почти все русские классики и многие поколения русских читателей, оказался без последователей) была в качестве метафоры использована Павлом Петровичем Майковым-Тян-Шанским, который в «Несчастной дуэли» по сути дела просто материализовал ее.
В интерпретации повествователя: русская литература отталкивалась от Пушкина с таким отчетливым креном, как будто им было совершено непростительное преступление. Какое именно? Аккумулировал столько любви, что позволил превратить себя в миф и одновременно придал отчетливость «комплексу неполноценности», который в комбинации с «комплексом тайного духовного превосходства» и сформировал русский характер в послепушкинский период. То есть Пушкин предстал границей, отделившей реальность от мифа, читателя от писателя, но последующие интерпретации снимали эту границу, превращая пушкиноведение в море канонической любви, где канон предстал в качестве пьедестала с водруженным на него мифом.
Поэтому фраза «поэтический талант Пушкина весьма вероятен» из моего эссе «Веревочная лестница», написанного более 20 лет назад, казалась редакторам куда кощунственней любых пассажей с антисоветской подоплекой. Любовь с привкусом вины делала Пушкина неприкасаемым; канон не предполагал какой-либо иной интерпретации, кроме канонической. «Веревочная лестница», опубликованная в 1980 году в парижском журнале «Эхо», была востребована «Дружбой народов» только в 1993 году, да и то с рокировкой слов «весьма» и «очень»: «очень вероятный» талант Пушкина, должно быть, соответствовал меньшему объему присваиваемой власти.
Еще о правилах любви. Пушкин был убит на дуэли, что в массовом сознании поставило его в ряд с невинно убиенными Борисом и Глебом и другими канонизированными русскими «кроткими» святыми (если воспользоваться дефиницией С. Аверинцева). Неосознанная вина за то, что «мы пошли другим путем», приводила к апологетическому истолкованию любого факта биографии и творчества поэта. Однако реальный, а не мифологический Пушкин, конечно, не был ни «кротким», ни «грозным» святым, он вообще не был святым и, как утверждает, например, знаменитый исследователь «вечно женственного» и автор «Трех разговоров», был обуреваем страстями, хотел убить своего противника по последней дуэли и, значит, сам мог стать убийцей. но даже если говорить об истории в сослагательном наклонении, с отвращением отвергаемом историками, - Дантес убит, Пушкин после следствия сослан в Болдино, - достаточно ли этого для того, чтобы «подвергнуть Пушкина остракизму» и превратить его в жупел «безнравственности и аморализма»? Вряд ли. Однако, как пишет в соответствующем месте Тян-Шанский (на самом деле не совсем точно цитируя А. И. Васильчикова), «если добавить к сказанному многочисленные любовные истории этого баловня чужих жен и грозы мужей, то как представить себе, чтобы какой-то муж в конце концов не возмутился его беспардонным ухаживанием, не потребовал бы удовлетворения и не прислал бы вызов?»
Да, Пушкин, почитавший «мщение за одну из первых христианских добродетелей» (христианство Пушкина - розановское, ветхозаветное, недаром в интерпретации Б. Парамонова Пушкин - еврей), мог бы стать убийцей Дантеса, с неутомимым занудством страсти компрометировавшего его жену (Зинаида Шаховская - переменив пол, в «Несчастной дуэли» она предстала в образе прыщавого семинариста Зиновия Шаховского - использовала это предположение для довольно беспомощного и по-дамски кокетливого рассказа о «старости Пушкина»); но в кишиневский, одесский, московский, петербургский период и сам Пушкин нередко исполнял роль Дантеса, ухаживал за чужими женами и мог быть вызван к барьеру пострадавшей стороной, в результате чего справедливость, если она вообще существует, была бы от него еще дальше. Но мог ли даже в этом прискорбно гипотетическом случае Пушкин стрелять в своего соперника и - более того - убить его? Только случайно; этой микроскопической доли вероятности оказалось достаточно для вполне беспардонного рассказчика, неловко, надо сказать, скрывшегося под личиной известного географа и путешественника.