Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе - [14]
Практики и позиции агентов советского социального пространства — это практики и позиции детей, которые не догадываются, что отличаются от взрослых именно потому, что не знают, чем взрослые отличаются от них. Инфантилизм, присущий соцреализму, отмечают многие исследователи, фиксируя такие характерные черты, как сентиментальность, нравоучительность, просветительский пафос, максимализм. «Сентиментальная идиллия, в жизнеописании которой так преуспела советская словесность тридцатых, — очень часто детская идиллия. Ее мир хоть и не слишком просторен (это отвечает параметрам жанра), но не лишен известной глубины, а главное, органичен — детский мир. Он не разрушается, а естественно переходит во взрослый мир, как только кончаются отпущенные детству сроки. Но и взрослая действительность неотторжима и зависима от детской в литературе социалистического реализма — по причине глубокой инфантильности этой литературы>86: ведь не случайно, что лучшие, этапные и типологически наиболее характерные ее тексты очень быстро перемещались в разряд подросткового чтения или в качестве таких замышлялись изначально» (Гольдштейн 1993: 258). Просветительский пафос присущ и массовой литературе, но в случае соцреализма он приобретает характер идеологических нравоучений. Как пишет Смирнов, интересы ребенка «всецело расположены по ту сторону видимого, непосредственно ощущаемого: он доискивается до причин, связь фактов важнее для него, чем они сами, он сосредоточен на том, что может только мыслиться, он жаждет объяснений — образованности» (Смирнов 1994: 21). Поле советской литературы соответствует параметрам детской, во-первых, потому, что здесь описывают детскую жизнь и предназначают свои произведения для детей, во-вторых, потому, что в условиях запрета на иронию и борьбу за автономизацию поля агенты не в состоянии использовать границы поля и легитимные позиции в нем как ставки в игре, необходимые для сохранения и повышения своего статуса в социальном пространстве ввиду поглощения поля литературы полем идеологии.
Симптоматично, что высшим достижением в поле советской словесности 1930-х годов становится та детская литература, что осознала себя детской, — Чуковский, Маршак, обэриуты. Отрефлексированная позиция становится источником открытий>87, неотрефлексированная — заблуждений. Инфантильность советского социального пространства прежде всего проявлялась при приближении к его границам, причем неважно, частью какой стратегии было это движение. В своих мемуарах Эмма Герштейн приводит весьма характерную реакцию Мандельштама, заговорившего о Сталине с отцом мемуаристки: «Очень довольный, Осип Эмильевич вернулся ко мне в комнату. „У вашего отца детское мышление, — сказал он мне. — Представления обо всем ясные, но примитивные“. Когда мои гости разошлись, папа вошел ко мне: „Слушай, твой Мандельштам — это же форменный ребенок. Он такие дикости говорил… какой-то детский лепет“» (Герштейн 1998: 26).
Последствием инфантильной стратегии агента являлось сочетание беспричинной веселости, праздничного мироощущения и жестокости, категоричности и маргинальности, эгоцентричности и угодливости, комплекса превосходства и комплекса неполноценности. Именно «ребенку свойственны как беспричинная радость бытия <…>, так и отсутствие какой-либо сентиментальности, известная жестокость, вполне оправдывающая плакат с его чистыми тонами, отсутствием нюансировок и примитивной моралью „кто не с нами, тот против нас“, вырастающей не из „Капитала“, а из нравов детской» (Парамонов 1997: 428). Высокомерно-снисходительное отношение ко всем, кто попадает в Диснейленд, но не знает его законов, — это свойство поля, конституированное инфантильностью. Сам опыт функционирования внутри имперского Диснейленда (порождающий соответствующие практики и знание правил игры, способы присвоения власти, символического и культурного капитала, а также правила превращения культурного капитала в символический) предполагал двоякую идентификацию. Этот опыт мог идентифицироваться как единственно правильный (ортодоксальная позиция, использующая энергию власти в качестве поддержки) или как неестественная, но неизбежная стадия (неортодоксальная позиция, использующая энергию власти для противодействия ей). Но в любом случае тот, кто не обладал этим опытом, вне зависимости от его культурного капитала (интеллекта, прогностических способностей и статуса в мировой культуре), оценивался как не обладающий специфическим символическим капиталом, появляющимся только из опыта присутствия и принадлежности к советскому социальному пространству, репрезентирующему будущее>88; в то время как обладающие этим опытом (и соответствующим символическим капиталом) ощущали себя обогащенными им. Высокомерие советских интеллектуалов по отношению к интеллектуалам западным>89, не обладавшим катастрофическим, апокалипсическим, но инфантильным опытом бытования внутри советского социального пространства, особенно отчетливо проявилось в ситуации после «оттепели». Но еще раньше процедуре инфантилизации подверглись разные грани практик агентов, а в литературе — поэтика

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Д.А. Пригов: "Из всей плеяды литераторов, стремительно объявившихся из неведомого андерграунда на всеообщее обозрение, Михаил Юрьевич Берг, пожалуй, самый добротный. Ему можно доверять… Будучи в этой плеяде практически единственым ленинградским прозаиком, он в бурях и натисках постмодернистских игр и эпатажей, которым он не чужд и сам, смог сохранить традиционные петербургские темы и культурные пристрастия, придающие его прозе выпуклость скульптуры и устойчивость монумента".

Н. Тамарченко: "…роман Михаила Берга, будучи по всем признакам «ироническим дискурсом», одновременно рассчитан и на безусловно серьезное восприятие. Так же, как, например, серьезности проблем, обсуждавшихся в «Евгении Онегине», ничуть не препятствовало то обстоятельство, что роман о героях был у Пушкина одновременно и «романом о романе».…в романе «Вечный жид», как свидетельствуют и эпиграф из Тертуллиана, и название, в первую очередь ставится и художественно разрешается не вопрос о достоверности художественного вымысла, а вопрос о реальности Христа и его значении для человека и человечества".
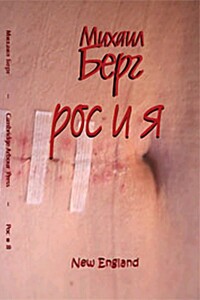
В этом романе Михаила Берга переосмыслены биографии знаменитых обэриутов Даниила Хармса и Александра Введенского. Роман давно включен во многие хрестоматии по современной русской литературе, но отдельным изданием выходит впервые.Ирина Скоропанова: «Сквозь вызывающие смех ошибки, нелепости, противоречия, самые невероятные утверждения, которыми пестрит «монография Ф. Эрскина», просвечивает трагедия — трагедия художника в трагическом мире».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
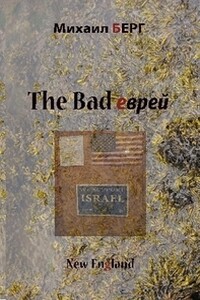
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новой книге известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса исследуются малоизученные стороны эстетики А. С. Пушкина, становление его исторических, философских взглядов, особенности религиозного сознания, своеобразие художественного хронотопа, смысл полемики с П. Я. Чаадаевым об историческом пути России, его место в развитии русской культуры и продолжающееся влияние на жизнь современного российского общества.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.