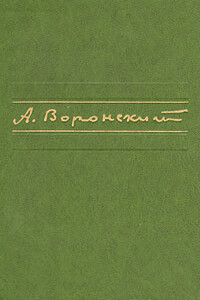Литературные силуэты - [8]
В конце концов: кожаные куртки: Архипов, Наталья, Лукич, Донат, Елена и пр. превосходны у Б. Пильняка. Верно и хорошо отмечены свежесть и покоряющая бодрость, но ведь это не все. Это только существенные внешние признаки. «Энегрично фукцировать»… Но во имя чего, куда, зачем, что дальше внутри у этих людей? В какую даль идут они? Какую роль они играли в русской революции? Что дадут России, что дают? Они ведь живые люди. То же и с деревней. Пильняк искал звериные следы — он любит и знает звериные тропы. Он нашел их в деревне. Но это тоже не все, тут только кусок, часть жизни.
Вопрос о единой сердцевине автора приобретает сейчас решающее значение не только потому, что роль художественного слова в наши дни приобретает в общем водовороте жизни совершенно исключительное значение, но еще и главным образом потому, что мы вступили в полосу настоящей, подлинной переработки и внутреннего осмысливания всего пережитого за последнее пятилетие. Художник, который этого не поймет, быстро окажется позади «духа времени». Место оратора на митинге занимает художник, ученый. И они должны быть трибунами, пророками «с божественным глаголом» на устах.
IV
Несколько замечаний о писательской манере Пильняка. Пильняк безусловно свеж, самостоятелен и оригинален. Конечно, не трудно проследить влияние некоторых старых писателей на него: в описании, например, Ордынина-города, сказывается Чехов и Горький, дьякон в «Мятели» напоминает «Соборян», на конструкцию последних вещей повлияли несомненно Андрей Белый и Ремизов. Все это, однако, не существенно: слишком своеобразен и индивидуален автор.
Очень затейлив и оригинален прежде всего стиль. Построение речи отходит от обычных норм. Обороты совершенно неожиданные и непривычные. Старый грамматик должен притти от них в ужас. Речь раскидистая, ухабистая, слова бросаются широким, вольным взмахом, веером, врассыпную, либо ссыпаются разом ворохом. Слово любит Пильняк. Любит его историю, его первоначальный, коренной смысл, его ядро. «Слова мне — как монета нумизмату». И здесь Пильняк верен себе, своему основному художественному методу: искать первичное, девственное, не замутненное позднейшим. Часто грешит автор по части сказуемого и подлежащего. Часто — тире: нужно догадываться, перечитать фразу. Бросается намеком слово, за ним целый круг мыслей. В сущности разговорная, но манерная красочная речь. Печатное слово — слышное: слышишь как выговаривает автор и кому оно принадлежит: громко, размашисто, без системы и внешней связанности и стройности, увесисто бросаются слова, булыжниками. От предложения к предложению — переходы в силу контраста: «третьим интернационалом провода трубили по тракту Рязань. Повозка на двух колесах — беда называется». Много вводных слов, пояснений, вставок. Повторения упорные. При видимой щедрости и размашистости — большая экономия. В предложение втискивается целая система образов, понятий.
Не только глава от главы, но абзац от абзаца обрубается. Стилизованная манера думать, — пишет как думает, — когда человек перебрасывается с одного на другой, особенно характерная для непроизвольного мышления — мысли плывут хаотично, вольно как облака по небу. Мазок в одну сторону, мазок в другую, в третью, десятую, потом в конце еще какими-то штрихами воссоздается целая картина. Иногда Пильняк явно злоупотребляет этой манерой, и читателю приходится преодолевать страницы и связывать усиленно самому. Когда это чрезмерно, как в повести «Иван-да-Марья», это утомляет. В отличие от Серапионовых братьев и большинства молодых писателей, занимательной, интересной фабулы у Пильняка нет, да и вообще фабулы нет. Не рассказы, не повести, не романы, а поэмы в прозе. Мозаика, механическое сцепление глав. Из самостоятельных этюдов составлен роман «Голый год». Такому же легкому расцеплению поддаются и некоторые другие вещи: «Мятель», «Рязань-Яблоко» и пр.
Кстати о «Голом годе» с точки зрения экономии. В романе 142 страницы, не очень большого формата. В эти полтораста страниц втиснуто столько художественно обработанного материала, что свободно хватило бы на столько романов, сколько в «Голом году» глав. Как все это далеко ушло не только от времен «Обрыва» Гончарова, но и от времен более поздних, например, кануна войны и революции? В этом — стиль нашей эпохи. Даже Чехов и Бунин кажутся по сравнению с этой насыщенностью и экономией разжиженными.
В общем все — взбаломученное, шумное, постоянно выходящее из границ, трубное, с восклицаниями, с большим нервным напряжением и концентрацией, как вода морская в лиманах. Пильняк пишет не сердцем, прежде всего, а нервами.
Образы, сравнения не затасканы, свои, свежие, тоже повторяются упорно. Резко индивидуальны и врезываются четко фигуры отдельных персонажей: дьякона, Сергея Сергеича, Зилотова, старика Архипова и других. Очерчены всегда импрессионистски. А вот таких мест следует избегать: Семен Семеныч говорит на собрании анархистов: «Я закрываю собрание, товарищи. Я хочу поделиться с вами другим фактом. Товарищ Андрей женится на тов. Ирине. Я думаю, это разумно. Кто-нибудь имеет сказать что-либо? Никто ничего не сказал…» («Голый год»). Это — фельетонно и досадно выпирает из романа (поэма ведь). Такие места встречаются у Пильняка не редко.
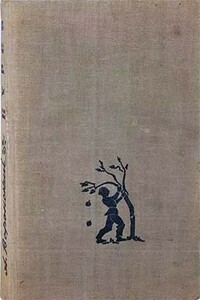
Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.
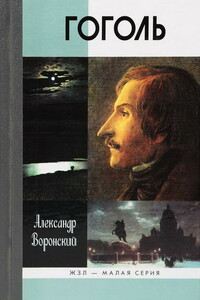
«Эта уникальная книга с поистине причудливой и драматической судьбой шла к читателям долгих семьдесят пять лет. Пробный тираж жизнеописания Гоголя в серии „ЖЗЛ“, подписанный в свет в 1934 году, был запрещен, ибо автор биографии, яркий писатель и публицист, Александр Воронский подвергся репрессиям и был расстрелян. Чудом уцелели несколько экземпляров этого издания. Книга А. Воронского рассчитана на широкий круг читателей. Она воссоздает живой облик Гоголя как человека и писателя, его художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».